Стиль барокко в русской литературе XVII века -Русская литература XI
Кто не делится найденным, подобен свету в дупле секвойи (древняя индейская пословица)
Библиографическая запись: Стиль барокко в русской литературе XVII века. — Текст : электронный // Myfilology.ru – информационный филологический ресурс : [сайт]. – URL: https://myfilology.ru//russian_literature/russkaya-literatura-xi-xvii-vekov/stil-barokko-v-russkoj-literature-xvii-veka/ (дата обращения: 27.09.2022)
Содержание
«Высокая» литература продолжала развиваться во второй половине XVII в. рядом с литературой демократической. Она гораздо больше была связана традициями. Стиль барокко – помпезный и в известной мере официальный, распространился главным образом в придворной поэзии, в придворном театре. Он лишен внутренней свободы и подчинен логике развития литературного сюжета. Этот стиль был переходным и, в известной мере, эклектичным: он стоял как бы между средневековьем и новым временем. Ярче всего «стиль барокко» представлен в произведениях Симеона Полоцкого, Кариона Истомина, Сильвестра Медведева, в драматургии конца XVII в.
Этот стиль был переходным и, в известной мере, эклектичным: он стоял как бы между средневековьем и новым временем. Ярче всего «стиль барокко» представлен в произведениях Симеона Полоцкого, Кариона Истомина, Сильвестра Медведева, в драматургии конца XVII в.
Симеон Полоцкий стремится воспроизвести в своих стихах различные понятия и представления, он логизирует поэзию, сближает ее с наукой. Сборники его стихов напоминают обширные энциклопедические словари. Он сообщает читателю «сведения» по своей теме. От этого темы его стихов самые общие.
Образ человека подчиняется сюжету повествования. В стихотворении главное — не люди, главное — сюжет, занимательный и нравоучительный в одно и то же время. Построение замысловатого сюжета, собрание разных тем занимают писателя в первую очередь.
Форма барокко — открытая форма. Она разрешает присоединение бесчисленного множества деталей. Это была великолепная школа для дальнейшего движения литературы вперед по пути усложнения изображения действительности. Изображается не только сам человек, но и принадлежащие ему дворцы, его власть, его деяние, его жизнь. Вот почему этот стиль имел очень большое значение для развития пейзажа в литературе, для изображения быта, для роста занимательности, сюжетной законченности. Внутренняя жизнь человека интересовала писателя только в ее внешних проявлениях.
Изображается не только сам человек, но и принадлежащие ему дворцы, его власть, его деяние, его жизнь. Вот почему этот стиль имел очень большое значение для развития пейзажа в литературе, для изображения быта, для роста занимательности, сюжетной законченности. Внутренняя жизнь человека интересовала писателя только в ее внешних проявлениях.
Описываются разные типы людей: купец, невежда, клеветник, библейские и исторические персонажи, а с другой стороны — отдельные психологические свойства, черты характера, поступки: месть, клевета, любовь к подданным, мысль, разум, воздержание и т. д.
Барокко на Западе явилось именно на смену Ренессанса и было частичным возвращением к средневековью. В России же барокко пришло на смену средневековью и приняло на себя многие из функций Ренессанса. Оно было связано в России с развитием светских элементов в литературе, с просветительством. Поэтому чистота западных барочных форм при их переносе в Россию утрачивалась. Вместе с тем русское барокко не захватывало собой всего искусства, как на Западе, а являлось только одним из его направлений.
Барокко приобрело у нас немного другой оттенок. У нас не было Возрождения. На первый план – стремление познать мир, описать мир (Симеон Полоцкий – по тетради в день). Проявился в виршах и школьном театре.
Каковы границы барокко? Не разрешен вопрос. Помимо виршей и школьного театра, появляются новые явления в пассанской среде (купцов, ремесленников, шушары всякой). Появляется бытовая нравоучительная повесть, пародии. Эти жанры не похожи на прежние. Но есть и то, что роднит с высоким барокко. Барокко функционировало у нас в двух разновидностях (высокое и низкое), а может это два разных стиля.
Не соблюдаются основные черты средневековой литературы: дидактичность, серьезность, доказательность.
“Повесть о горе и злосчастии” (злая учесть) и “Повесть о Савве Грудцыне”. Авторы здесь еще сохраняют дидактизм. В “1” на фольклорных элементах – нет имени, просто молодец. Родители замечательные. Много говорят сыну, который в итоге просыпается под забором. Домой стыдно, он выбирается, начинает хвастаться.
Вроде бы герои распоряжаются своей судьбой, но затем наказываются.
“Повесть о Фроле Скобееве”, бедный, зарабатывает ходатайством на чужие дела. Но честолюбим безупречно. “Либо полковник, либо покойник”. Придумает аферу. В его городе жила дочь Столыпина, Аннушка. Фролка решает на ней жениться. В отсутствие ее родителей переоделся в девушку и притащился к ней девичник. Соблазняет ее. Берет у Ловчикова лошадей, уезжают. Анна к тетке, а он повозчик. Фролка начинает шантажировать Ловчикова. Анна ложится в постель и посылает родителям, что помирает (делает вид, что наказано). Родители присылают икону с благословлением. В итоге герой не наказан, а наоборот – преуспел.
В “Повести о Карпе Сутулове” и его жене Татьяне Карп уезжает за товаром, а жене оставил много денег – 100 р. После того, как деньги вышли, идет к его другу. Он может дать ей деньги, но только ценой дочери. Честь сберегла и прибыток принесла.
Это – пассанская литература.
Вторая группа литературы – смеховая литература. Впервые это понятие – три книжки Бахтина М., который ввел понятие “карнавальный смех”. Это своего рода разрядка. Карнавал – время, когда все дозволено, когда все наоборот, все переиначивается. Смешен сам процесс переиначивания/переворачивания. Долго не приходило в нашу литературу.
Когда стали писать повестушки пассатские люди, этот смех проник в нашу литературу и отразился. В пассатской литературе есть обличительное начало – осмеиваются те, кто преуспел, кто богаче, ест лучше. Гораздо больше произведений, где это переплетено со смехом или этого вообще нет.
Жил человек бражник (“Повесть о бражнике”), помер и решил, что ему надо в рай. Подошел к двери в рай.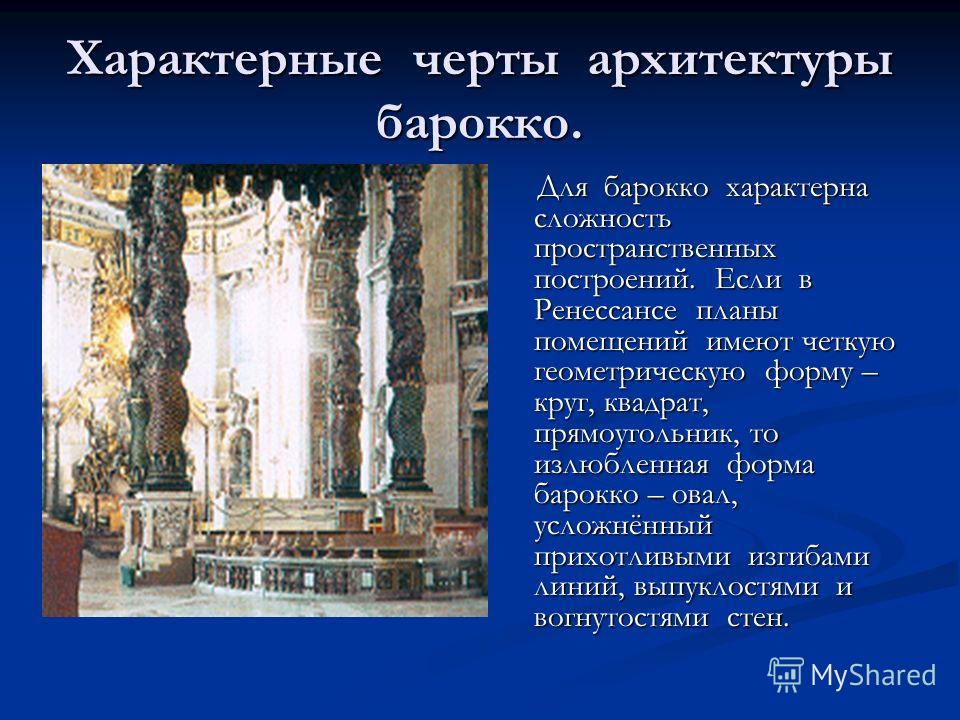 Спорит с апостолами; или то, или то; попадает в рай, в самое лучшее место.
Спорит с апостолами; или то, или то; попадает в рай, в самое лучшее место.
“Калязинская челобитная” – низы общества всегда смеются над монахами.
“Повесть о Шемякином суде” – карнавальная повесть. Два брата – бедный и богатый – судятся. Богатые – дураки, бедным везет. Здесь национально – пассатская психология. Переход проявился в появлении стихосложения и театра.
Теория барокко А.В. Михайлова в его «науке о культуре»
Исследование выполнено в рамках Программы фундаментальных исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) и с использованием средств субсидии на государственную поддержку ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров, выделенной НИУ ВШЭ.
Задача данного исследования — демонстрация систематического характера исторического метода А.В. Михайлова на материале его теории барокко. Творчество А.В. Михайлова, наряду с работами М.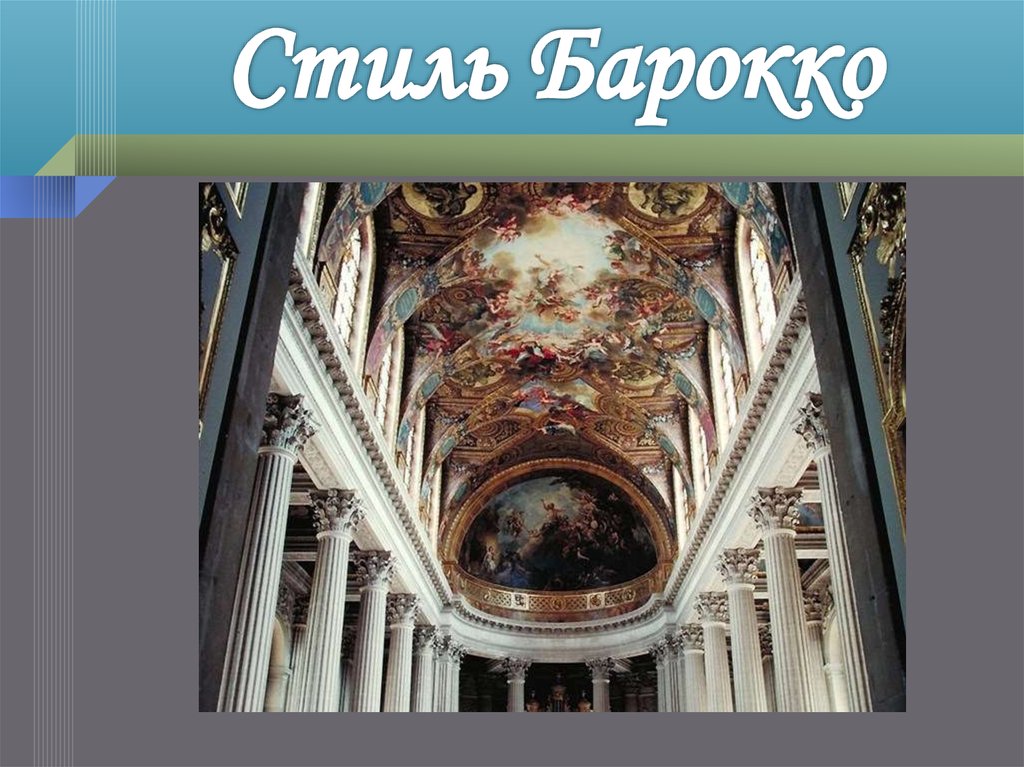 М. Бахтина и С.С. Аверинцева, составляет особое направление в рамках историографии и философии гуманитарных наук, отличительной особенностью которого становится специфический способ работы с историческим знанием, которое приобретает здесь статус основы и субстрата теоретизирования. Ключ к пониманию интенции научного поиска А.В. Михайлова обнаруживается уже в самом языке, который вырабатывает ученый. Этот язык принципиально лишен четкой структуры, кристальных дефиниций и устоявшегося терминологического аппарата. Дело в том, что А.В. Михайлов снимает различение теоретического и «исторического». Отвлеченному теоретизированию, продуцирующему общие и универсальные схемы и концепты, противопоставляется проблематизация оснований гуманитарного знания, которая понимается здесь как историзация его основных понятий. «Историческое существование слова для науки означает первым делом, что оно вынуждено перестать быть просто и мнимо тождественным себе и обязано выявить историческую конкретность и историческую изменчивость своего смысла, то есть неравенство себе и свою несводимость к одному смыслу» [1].
М. Бахтина и С.С. Аверинцева, составляет особое направление в рамках историографии и философии гуманитарных наук, отличительной особенностью которого становится специфический способ работы с историческим знанием, которое приобретает здесь статус основы и субстрата теоретизирования. Ключ к пониманию интенции научного поиска А.В. Михайлова обнаруживается уже в самом языке, который вырабатывает ученый. Этот язык принципиально лишен четкой структуры, кристальных дефиниций и устоявшегося терминологического аппарата. Дело в том, что А.В. Михайлов снимает различение теоретического и «исторического». Отвлеченному теоретизированию, продуцирующему общие и универсальные схемы и концепты, противопоставляется проблематизация оснований гуманитарного знания, которая понимается здесь как историзация его основных понятий. «Историческое существование слова для науки означает первым делом, что оно вынуждено перестать быть просто и мнимо тождественным себе и обязано выявить историческую конкретность и историческую изменчивость своего смысла, то есть неравенство себе и свою несводимость к одному смыслу» [1]. В конечном итоге его работа всегда была нацелена на поиск такого языка, который позволил бы, совмещая историко-культурное (преимущественно даже историко-литературное) исследование с исследованием теоретических проблем, через герменевтику «историко-культурных форм слова» (то есть анализ исторических трансформаций онтологического статуса слова) реконструировать «исторические принципы поэтического сознания» (на самом деле — типы творческого субъекта). Из двух тенденций в философии «наук о духе», которые заявили о себе еще в конце XIX века и могут быть самым общим образом обозначены как герменевтика социального мира (В. Дильтей, М.М. Бахтин как автор «Философии поступка», П. Рикёр как автор работ по философии права, Г.-Г. Гадамер, В.Л. Махлин) и герменевтика слова/языка (Э. Ауэрбах, К.-О. Апель), творчество А.В. Михайлова является безусловным и чистым выражением второй. Парадигма поэтического языка для него — принципиальный выбор, литературоцентризм — его философское credo: важнейшая предпосылка всякой деятельности, направленной на понимание, для него состоит во вполне рационалистически обоснованной уверенности в том, что именно поэтическое слово и литературное творчество есть та сфера, обратившись к которой, можно получить исчерпывающие ответы на любые вопросы об историческом мире.
В конечном итоге его работа всегда была нацелена на поиск такого языка, который позволил бы, совмещая историко-культурное (преимущественно даже историко-литературное) исследование с исследованием теоретических проблем, через герменевтику «историко-культурных форм слова» (то есть анализ исторических трансформаций онтологического статуса слова) реконструировать «исторические принципы поэтического сознания» (на самом деле — типы творческого субъекта). Из двух тенденций в философии «наук о духе», которые заявили о себе еще в конце XIX века и могут быть самым общим образом обозначены как герменевтика социального мира (В. Дильтей, М.М. Бахтин как автор «Философии поступка», П. Рикёр как автор работ по философии права, Г.-Г. Гадамер, В.Л. Махлин) и герменевтика слова/языка (Э. Ауэрбах, К.-О. Апель), творчество А.В. Михайлова является безусловным и чистым выражением второй. Парадигма поэтического языка для него — принципиальный выбор, литературоцентризм — его философское credo: важнейшая предпосылка всякой деятельности, направленной на понимание, для него состоит во вполне рационалистически обоснованной уверенности в том, что именно поэтическое слово и литературное творчество есть та сфера, обратившись к которой, можно получить исчерпывающие ответы на любые вопросы об историческом мире.
Именно в этом смысле «литература» и «история» становятся для А.В. Михайлова ключевыми понятиями гуманитарной науки. Представление о литературе, рассматриваемой на некоторых этапах существования морально-риторической системы (в рамках которой происходило оформление до- и ранненововременного знания) предельно широко, как «все написанное вообще» [2] (здесь Михайлов наследует расширительному толкованию понятия «литература» В. Дильтея, который понимал под ней «все воплощаемые в языке проявления жизни народа, выходящие за пределы практической жизни и постоянно сохраняющие свою значимость» [3]), Михайлов фактически распространяет и на трактовку предмета гуманитарной науки, употребляя в своих работах едва ли не в качестве синонимов понятия «наука о литературе» и «наука о культуре». Вопрос о перспективах гуманитарного знания рассматривается автором в контексте реконфигурации отношения «наук о духе» к истории. Подобно тому, как М. Хайдеггер заменяет вопрос о существовании/несуществовании вопросом о смысле применительно к бытию [4], Михайлов проделывает подобную операцию в отношении к «слову»: чтобы понять, что есть «литература» как предмет гуманитарного знания, необходимо эксплицировать специфическую аксиоматику этого знания, которая, в отличие от аксиоматики замкнутой на себе математической науки, находится в тесной связи с «жизнью» как «историко-культурным совершением» [5].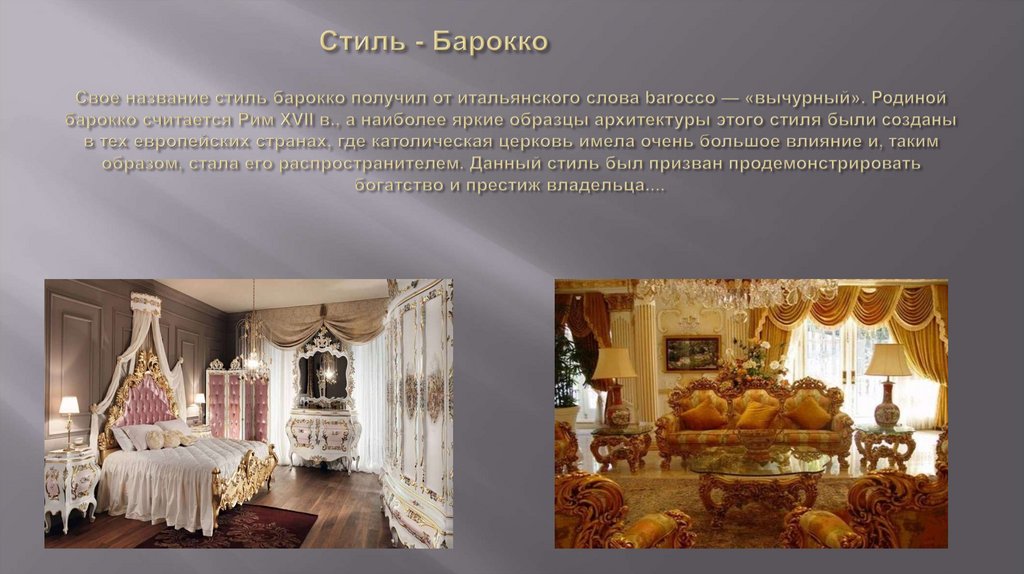 Для этого необходимо проанализировать отношение позиции исследователя («нас») к своему предмету («окружающее нас») через категорию «близлежащего» — того, что является основанием конкретной науки, указывает на ее собственную аксиоматику и этим отличает ее от всех прочих. Тезис о том, что открытие «аксиоматики» и «близлежащего» осуществляется на «поле дометодологического», указывает на неприятие Михайловым неокантианского «методологизма». Потенциальная возможность обновления связывается здесь с отказом от исходных посылок, навязываемых сложившимся научным аппаратом, как от акцидентальных и исторически обусловленных, в пользу постановки гуманитарного знания в новое отношение к истории. Это отношение определяется пониманием исторического процесса как смены и сосуществования различных «языков культуры», освоение которых осуществляется с помощью определенных герменевтических процедур [6] («обратный перевод» [7], «замедление» [8]). Новое отношение к истории подразумевает, таким образом, осмысление прошлого как «бывшего-в-настоящем», которое осуществляется из будущего и для будущего.
Для этого необходимо проанализировать отношение позиции исследователя («нас») к своему предмету («окружающее нас») через категорию «близлежащего» — того, что является основанием конкретной науки, указывает на ее собственную аксиоматику и этим отличает ее от всех прочих. Тезис о том, что открытие «аксиоматики» и «близлежащего» осуществляется на «поле дометодологического», указывает на неприятие Михайловым неокантианского «методологизма». Потенциальная возможность обновления связывается здесь с отказом от исходных посылок, навязываемых сложившимся научным аппаратом, как от акцидентальных и исторически обусловленных, в пользу постановки гуманитарного знания в новое отношение к истории. Это отношение определяется пониманием исторического процесса как смены и сосуществования различных «языков культуры», освоение которых осуществляется с помощью определенных герменевтических процедур [6] («обратный перевод» [7], «замедление» [8]). Новое отношение к истории подразумевает, таким образом, осмысление прошлого как «бывшего-в-настоящем», которое осуществляется из будущего и для будущего.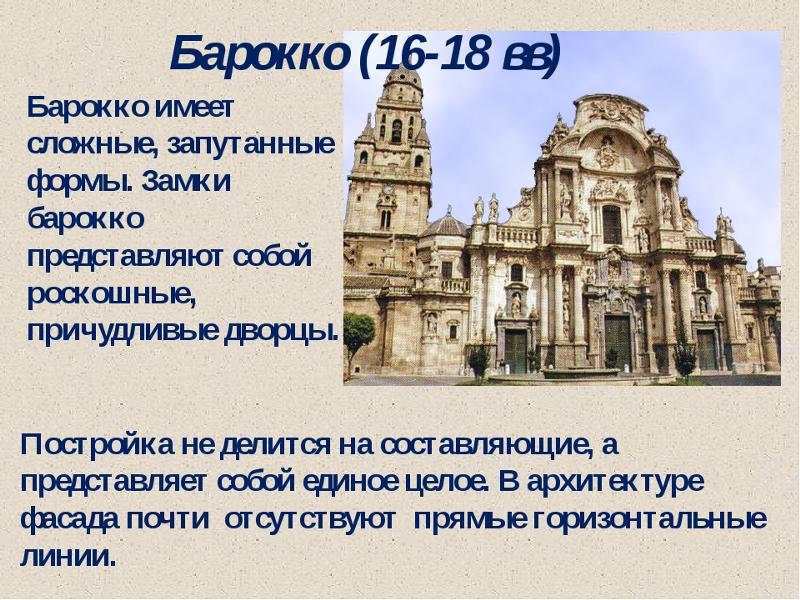 А.В. Михайлов, очевидным образом, развивает идею «цитирования» истории, контуры которой были обозначены Вальтером Беньямином в его тезисах «О понятии истории» [9]. «Бывшее-в-настоящем-из-будущего» есть актуализированное прошлое, изъятое из своего конкретного герменевтического пространства и присвоенное культурой-реципиентом в качестве «своего». Открытие способности воспринимать «иное» как «свое» или, иными словами, наделение прошлого субъектными качествами и есть то, что понимается под предложенным Михайловым словосочетанием «новый историзм» [10]. В историческом ракурсе перед нами, в известном смысле, — проблема усвоения традиции, реновация истоков собственной культуры через овладение языком прошлого. Однако здесь есть и другое измерение — диалогическое. Освоение языка «Другого» и принятие «Другого» (здесь Михайлов выступает как наследник М.М. Бахтина) касается не только прошлого, но и современности, становясь фундаментальной коммуникативной проблемой.
А.В. Михайлов, очевидным образом, развивает идею «цитирования» истории, контуры которой были обозначены Вальтером Беньямином в его тезисах «О понятии истории» [9]. «Бывшее-в-настоящем-из-будущего» есть актуализированное прошлое, изъятое из своего конкретного герменевтического пространства и присвоенное культурой-реципиентом в качестве «своего». Открытие способности воспринимать «иное» как «свое» или, иными словами, наделение прошлого субъектными качествами и есть то, что понимается под предложенным Михайловым словосочетанием «новый историзм» [10]. В историческом ракурсе перед нами, в известном смысле, — проблема усвоения традиции, реновация истоков собственной культуры через овладение языком прошлого. Однако здесь есть и другое измерение — диалогическое. Освоение языка «Другого» и принятие «Другого» (здесь Михайлов выступает как наследник М.М. Бахтина) касается не только прошлого, но и современности, становясь фундаментальной коммуникативной проблемой.
Важное место в теоретической конструкции А. В. Михайлова занимает теория барокко. Более того, ее экспликация является непременным условием понимания его исследовательского проекта in toto. В то же время, верно и обратное: говорить о «поэтике барокко» Михайлова невозможно вне контекста его философских и «методологических» предпосылок. Центральное место в первом случае занимает философия М. Хайдеггера, а во втором — герменевтика от В. Дильтея до Г.-Г. Гадамера. Отметим, что реконструкция философских оснований творчества А.В. Михайлова интересует нас исключительно в связи с их ролью в созданной автором теории барокко.
В. Михайлова занимает теория барокко. Более того, ее экспликация является непременным условием понимания его исследовательского проекта in toto. В то же время, верно и обратное: говорить о «поэтике барокко» Михайлова невозможно вне контекста его философских и «методологических» предпосылок. Центральное место в первом случае занимает философия М. Хайдеггера, а во втором — герменевтика от В. Дильтея до Г.-Г. Гадамера. Отметим, что реконструкция философских оснований творчества А.В. Михайлова интересует нас исключительно в связи с их ролью в созданной автором теории барокко.
Не будет ошибкой утверждать, что интенцией А.В. Михайлова было дальнейшее развитие так называемого «герменевтического поворота», который в российской гуманитаристике был инициирован М.М. Бахтиным. Для советского литературоведения, в рамках которого реализовывался данный проект, этот «поворот» означал дрейф науки о литературе в сторону философии в контексте в полемики с формалистами [11]. И если основатель «исторической поэтики» в России А. Н. Веселовский создавал ее в ситуации кризиса философского знания и обусловленного этим кризисом стремления зарождающихся гуманитарных дисциплин отмежеваться от философии путем обоснования собственного предмета и выработки своего метода, то А.В. Михайлов, находясь на противоположном полюсе, по-своему реанимируя проект Веселовского спустя почти сотню лет, вплетает его в ткань формирующейся философско-герменевтической традиции. Опираясь на философию М. Хайдеггера, Михайлов дополняет его фундаментальную онтологию «фундаментальной филологией» и герменевтикой. Вместо «бытия» в центр помещается «слово», становясь, по выражению В.П. Визгина, «абсолютной системой координат», в рамках которой «свой смысл получают и человек, и мир, и история, и культура» [12]. «Слово» в его историческом развитии, в процессе его перехода из бытия-в-себе в бытие-для-себя становится для Михайлова подлинным субъектом исторического процесса, и именно в этом заключается его «герменевтический поворот», имеющий следствием проект историзации гуманитарного знания, для различных направлений которого история становится своего рода «общим центром».
Н. Веселовский создавал ее в ситуации кризиса философского знания и обусловленного этим кризисом стремления зарождающихся гуманитарных дисциплин отмежеваться от философии путем обоснования собственного предмета и выработки своего метода, то А.В. Михайлов, находясь на противоположном полюсе, по-своему реанимируя проект Веселовского спустя почти сотню лет, вплетает его в ткань формирующейся философско-герменевтической традиции. Опираясь на философию М. Хайдеггера, Михайлов дополняет его фундаментальную онтологию «фундаментальной филологией» и герменевтикой. Вместо «бытия» в центр помещается «слово», становясь, по выражению В.П. Визгина, «абсолютной системой координат», в рамках которой «свой смысл получают и человек, и мир, и история, и культура» [12]. «Слово» в его историческом развитии, в процессе его перехода из бытия-в-себе в бытие-для-себя становится для Михайлова подлинным субъектом исторического процесса, и именно в этом заключается его «герменевтический поворот», имеющий следствием проект историзации гуманитарного знания, для различных направлений которого история становится своего рода «общим центром». Прошлое здесь перестает быть объектом. «Новый историзм» Михайлова вырастает из его критики «модерноцентризма»: он снимает противопоставление прошлого и современного, отказывается мыслить актуальное состояние науки как «вершину» ее «развития» и на основании этого лишает ее права на выработку критерия научности. «Модерноцентризм», которым проникнута в том числе современная историческая наука, неприемлем для Михайлова потому, что он не проблематизирует современное, мысля его в качестве «само собой разумеющегося» [13] а такое мышление противоречит феноменологической установке на проблематизацию исходных предпосылок, нерефлексируемого принятия наличного как «очевидного».
Прошлое здесь перестает быть объектом. «Новый историзм» Михайлова вырастает из его критики «модерноцентризма»: он снимает противопоставление прошлого и современного, отказывается мыслить актуальное состояние науки как «вершину» ее «развития» и на основании этого лишает ее права на выработку критерия научности. «Модерноцентризм», которым проникнута в том числе современная историческая наука, неприемлем для Михайлова потому, что он не проблематизирует современное, мысля его в качестве «само собой разумеющегося» [13] а такое мышление противоречит феноменологической установке на проблематизацию исходных предпосылок, нерефлексируемого принятия наличного как «очевидного».
Отказ от предпосылок — важнейшее условие понимания (Verstehen), и этот отказ основывается на стремлении понять текст таким, каков он есть, каким он был задуман, на вере в саму возможность такого понимания: «Как раз потому, что нам хотелось бы знать, каковы вещи сами по себе, каковы сами по себе произведения и тексты, мы и не можем позволить себе понимать их лишь по мере такого понимания, которое задается нашим представлением о вещах…» [14] Напротив, постижение истории, осуществимое только через постижение языка прошлого как языка иной культуры, возможно только при условии, что нам удастся «перевоплотить свое сознание в сознание иных эпох», т. е. изучить этот язык и научиться мыслить его собственными категориями. Отказ от «модерноцентризма» подразумевает необходимость «перестать довольствоваться своим». Речь идет о том, чтобы перестать принимать свой «взгляд на вещи как исторически безотносительный и как естественный» [15]. На свою собственную позицию необходимо смотреть критически, нельзя позволять себе настаивать на каком-то определенном мнении только потому, что это мнение может казаться нам само собой разумеющимся, сообразующимся со здравым смыслом. «Мы можем и должны запретить себе делать такие высказывания, которые как бы напрашиваются для нас сами собой, высказывать суждения, которые мы выносим автоматически, просто потому, что мы так думаем» [16]. Запрет на автоматические высказывания практически означает такое обращение исследовательского взгляда с предмета на собственные предпосылки, на собственное «искание», в результате которого мы, несмотря на невозможность полного отказа от нерефлексируемых предпосылок, сможем, по крайней мере, осознать цезуру между тем, что в наших высказываниях кажется нам очевидным, и тем, что в этих высказываниях проявляется как исторически относительное.
е. изучить этот язык и научиться мыслить его собственными категориями. Отказ от «модерноцентризма» подразумевает необходимость «перестать довольствоваться своим». Речь идет о том, чтобы перестать принимать свой «взгляд на вещи как исторически безотносительный и как естественный» [15]. На свою собственную позицию необходимо смотреть критически, нельзя позволять себе настаивать на каком-то определенном мнении только потому, что это мнение может казаться нам само собой разумеющимся, сообразующимся со здравым смыслом. «Мы можем и должны запретить себе делать такие высказывания, которые как бы напрашиваются для нас сами собой, высказывать суждения, которые мы выносим автоматически, просто потому, что мы так думаем» [16]. Запрет на автоматические высказывания практически означает такое обращение исследовательского взгляда с предмета на собственные предпосылки, на собственное «искание», в результате которого мы, несмотря на невозможность полного отказа от нерефлексируемых предпосылок, сможем, по крайней мере, осознать цезуру между тем, что в наших высказываниях кажется нам очевидным, и тем, что в этих высказываниях проявляется как исторически относительное. Именно с этого Михайлов и начинает исследование феномена барокко: с проблематизации самого представления о барокко, с положения о принципиальной нерелевантности традиционного, общепринятого взгляда на барокко в контексте смены жанровых форм как на простую деформацию классического, вне зависимости от его оценки — положительной или отрицательной [17]. Более того, проблематизации подвергается сама антропологическая константа современного человека, утвердившаяся, в частности, в литературном творчестве, в связи с распространением реализма и психологизма с середины XIX века.
Именно с этого Михайлов и начинает исследование феномена барокко: с проблематизации самого представления о барокко, с положения о принципиальной нерелевантности традиционного, общепринятого взгляда на барокко в контексте смены жанровых форм как на простую деформацию классического, вне зависимости от его оценки — положительной или отрицательной [17]. Более того, проблематизации подвергается сама антропологическая константа современного человека, утвердившаяся, в частности, в литературном творчестве, в связи с распространением реализма и психологизма с середины XIX века.
Следуя запрету на автоматические высказывания, тематизируя свое собственное положение по отношению к прошлому не в качестве вышестоящего и полномочного задавать этому прошлому свои вопросы, но «предавая себя истории» [18], исследователь подчиняется внеположной ему логике исторического материала. Отличие такой «историчности мышления» от общепринятого в исторической науке принципа историзма заключается в том, что если в последнем послушание историка логике материала, с которым он работает, остается формальным, поскольку, полагая себя субъектом, исследователь дистанцируется от своего предмета и, что важнее, выходит таким образом «за сферу действия истории» [19], то здесь от исследователя требуется полная включенность в процесс исследования и, посредством этого, в исторический процесс. Преодоление субъектности собственной исследовательской позиции означает у Михайлова открытость обратному влиянию исторического материала, его реактуализацию в современном контексте. Такая программа звучит почти фантастически для исследователя позитивистского склада в силу своего несоответствия устоявшимся представлениям о научности; но эта кажущаяся «ненаучность» или даже «антинаучность», фундированная философской герменевтикой, есть принципиальное требование переоткрытия оснований научности посредством историзации (в вышеозначенном смысле) научного мышления.
Преодоление субъектности собственной исследовательской позиции означает у Михайлова открытость обратному влиянию исторического материала, его реактуализацию в современном контексте. Такая программа звучит почти фантастически для исследователя позитивистского склада в силу своего несоответствия устоявшимся представлениям о научности; но эта кажущаяся «ненаучность» или даже «антинаучность», фундированная философской герменевтикой, есть принципиальное требование переоткрытия оснований научности посредством историзации (в вышеозначенном смысле) научного мышления.
Что означает эта идея А.В. Михайлова в практическом смысле, каким образом следует понимать его требование, обозначенное нами как реактуализация прошлого, становится ясно при обращении к его теории барокко. В самом общем виде, в ней можно выделить два основных аспекта: 1) особенности построения барочного произведения искусства; 2) особенности самопостижения человека, нашедшие свое отражение в этих произведениях, или барочная антропология.
Перед тем как предпринять их подробный анализ, необходимо обратиться к периодизации историко-культурных форм сознания, разработанной в трудах А.В. Михайлова, и к той роли, которую в ней играет эпоха барокко. Прежде всего стоит отметить, что данная периодизация появилась в контексте полемики между представителями двух основных подходов к определению предмета такого направления литературоведческих исследований, как «историческая поэтика». Основные принципы первого, сугубо филологического подхода были сформулированы М.Л. Гаспаровым в его программной статье 1986 года «Историческая поэтика и сравнительное стиховедение (проблема сравнительной метрики)», где предлагался исторический анализ «уровней» поэтики художественных произведений: метрика и фоника («уровень звуков»), стилистика («уровень слов»), тематика («уровень образов и мотивов») [20]. Представители второго подхода сгруппировались вокруг С.С. Аверинцева, который в той же коллективной монографии опубликовал статью под названием «Историческая подвижность категории жанра: опыт периодизации» [21].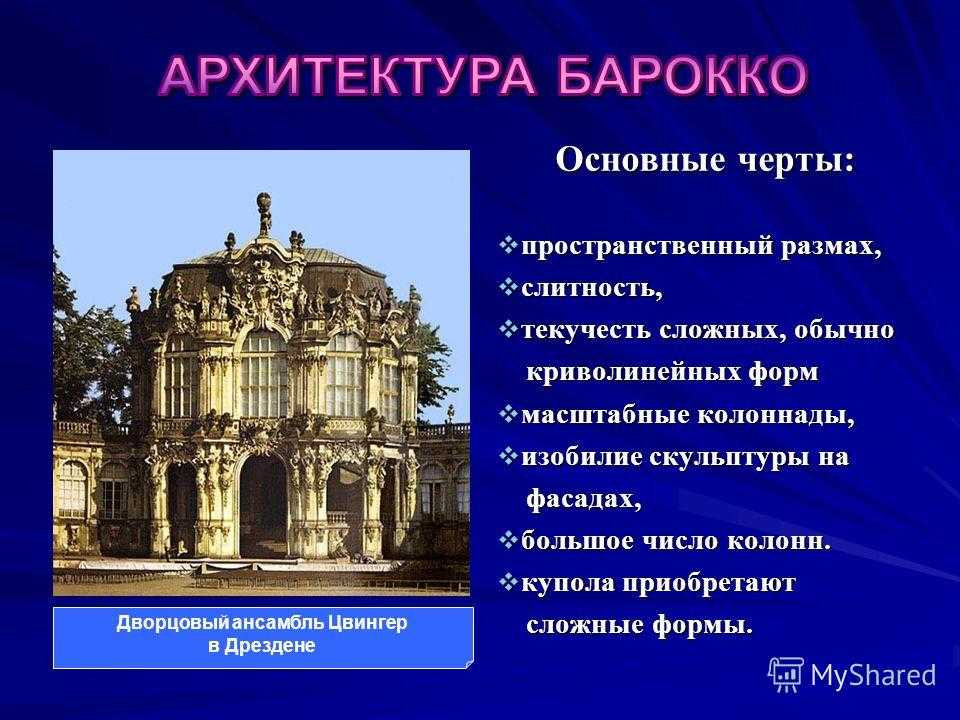 В этой статье С.С. Аверинцев предлагал сфокусироваться на историческом анализе таких основных категорий, как «жанр», «литература» и «авторство», причем последние две категории он рассматривал как производные и зависимые от первой. Поскольку в качестве главной задачи отечественной «науки о литературе», начиная с М.М. Бахтина, мыслилась разработка методов исследования переходных эпох в истории литературы (разработка, выходящая далеко за рамки литературоведения, превращающаяся, как в случае с М.М. Бахтиным и, впоследствии, А.В. Михайловым, в целое философское мировоззрение), процесс смены жанровой системы (и, в особенности, эволюция романа, определенного максимально широко) автоматически оказывался в центре внимания [22]. Таким образом, С.С. Аверинцев и А.В. Михайлов, работавшие над этой проблематикой на материале разных эпох и историко-культурных ареалов, приходят к общему выводу о том, что все фундаментальные трансформации, которые затрагивали самые основы категории жанра (и которые интересовали А.
В этой статье С.С. Аверинцев предлагал сфокусироваться на историческом анализе таких основных категорий, как «жанр», «литература» и «авторство», причем последние две категории он рассматривал как производные и зависимые от первой. Поскольку в качестве главной задачи отечественной «науки о литературе», начиная с М.М. Бахтина, мыслилась разработка методов исследования переходных эпох в истории литературы (разработка, выходящая далеко за рамки литературоведения, превращающаяся, как в случае с М.М. Бахтиным и, впоследствии, А.В. Михайловым, в целое философское мировоззрение), процесс смены жанровой системы (и, в особенности, эволюция романа, определенного максимально широко) автоматически оказывался в центре внимания [22]. Таким образом, С.С. Аверинцев и А.В. Михайлов, работавшие над этой проблематикой на материале разных эпох и историко-культурных ареалов, приходят к общему выводу о том, что все фундаментальные трансформации, которые затрагивали самые основы категории жанра (и которые интересовали А. В. Михайлова постольку, поскольку в них он стремился найти контуры эволюции человеческого самосознания и самоосмысления), случались в человеческой истории крайне редко и укладываются в периодизацию, состоящую из трех основных этапов, которые обозначались по-разному в зависимости от акцентов, расставленных исследователем. С.С. Аверинцев обозначил эти этапы как 1) «период дорефлективного традиционализма» (до V–IV веков до н.э.), 2) «период рефлективного традиционализма» (IV век до н.э. — сер. XVIII века), 3) период после распада традиционной жанровой системы, характеризующийся подъемом романного жанра и освобождением от «оков» традиционалистской риторической культуры, установлением свободы индивидуального творчества. Трехчастная периодизация стала в итоге общепринятой в советском (российском) литературоведении, оформившись во вступительной статье к другой коллективной монографии, посвященной проблемам «исторической поэтики», выпущенной в 1994 году. В большой вступительной статье под названием «Категории поэтики в смене литературных эпох», в написании которой приняли участие С.
В. Михайлова постольку, поскольку в них он стремился найти контуры эволюции человеческого самосознания и самоосмысления), случались в человеческой истории крайне редко и укладываются в периодизацию, состоящую из трех основных этапов, которые обозначались по-разному в зависимости от акцентов, расставленных исследователем. С.С. Аверинцев обозначил эти этапы как 1) «период дорефлективного традиционализма» (до V–IV веков до н.э.), 2) «период рефлективного традиционализма» (IV век до н.э. — сер. XVIII века), 3) период после распада традиционной жанровой системы, характеризующийся подъемом романного жанра и освобождением от «оков» традиционалистской риторической культуры, установлением свободы индивидуального творчества. Трехчастная периодизация стала в итоге общепринятой в советском (российском) литературоведении, оформившись во вступительной статье к другой коллективной монографии, посвященной проблемам «исторической поэтики», выпущенной в 1994 году. В большой вступительной статье под названием «Категории поэтики в смене литературных эпох», в написании которой приняли участие С. С. Аверинцев, М.Л. Андреев, М.Л. Гаспаров, П.А. Гринцер и собственно А.В. Михайлов, развивается мысль о том, что выделенным трем этапам истории литературы соответствуют три «наиболее общих и устойчивых типа художественного сознания»: 1) «архаический, или мифопоэтический», 2) «традиционалистский, или нормативный», 3) «индивидуально-творческий, или исторический (т.е. опирающийся на принцип историзма)» [23], с сохранением хронологии, приведенной Аверинцевым в 1986 году. В этой же книге публикуется первая (и единственная прижизненная) редакция «Поэтики барокко» А.В. Михайлова [24], в которой автор предпринимает фундаментальное исследование эпохи, обозначенной как барокко, на материале, прежде всего, немецкой барочной драмы и эмблематического жанра XVII века, в качестве завершающего этапа традиционной культуры. В терминологии самого Михайлова первые два этапа этой периодизации получают наименование дориторической и риторической эпох соответственно. Эпоха барокко интересует его в качестве даже не переходной, но, напротив, венчающей риторическую культуру (а значит, всецело к ней относящейся), в которой морально-риторическая система оформляется в своей завершенности, далее которой продвинуться невозможно, что и обусловливает нарастание в ней противоречий, которые разрушают ее изнутри.
С. Аверинцев, М.Л. Андреев, М.Л. Гаспаров, П.А. Гринцер и собственно А.В. Михайлов, развивается мысль о том, что выделенным трем этапам истории литературы соответствуют три «наиболее общих и устойчивых типа художественного сознания»: 1) «архаический, или мифопоэтический», 2) «традиционалистский, или нормативный», 3) «индивидуально-творческий, или исторический (т.е. опирающийся на принцип историзма)» [23], с сохранением хронологии, приведенной Аверинцевым в 1986 году. В этой же книге публикуется первая (и единственная прижизненная) редакция «Поэтики барокко» А.В. Михайлова [24], в которой автор предпринимает фундаментальное исследование эпохи, обозначенной как барокко, на материале, прежде всего, немецкой барочной драмы и эмблематического жанра XVII века, в качестве завершающего этапа традиционной культуры. В терминологии самого Михайлова первые два этапа этой периодизации получают наименование дориторической и риторической эпох соответственно. Эпоха барокко интересует его в качестве даже не переходной, но, напротив, венчающей риторическую культуру (а значит, всецело к ней относящейся), в которой морально-риторическая система оформляется в своей завершенности, далее которой продвинуться невозможно, что и обусловливает нарастание в ней противоречий, которые разрушают ее изнутри.
Ключевой особенностью произведения искусства в эпоху барокко, в интерпретации А.В. Михайлова, является особая соотнесенность со знанием о мире, каким оно сложилось в рамках морально-риторической системы. Барочное произведение (и, в частности, немецкая барочная драма, которая становится основным предметом анализа А.В. Михайлова) вбирает в себя максимально возможную сумму этого знания, включая любые сведения научного характера, философию, мифологию [25] и даже детали биографического характера, касающиеся жизни автора [26], — и все это, с точки зрения современных норм построения художественного произведения, представляется подчас абсолютно излишним. В наиболее крайних выражениях подобное стремление вобрать в себя весь мир позволяет рассматривать такое произведение как компендиум знаний о мире, как своеобразную энциклопедию; неразличенность искусства и науки в художественном творчестве XVII века принимает форму морально-риторических топосов, которые подлежат непрерывному истолкованию и которые, соединяясь в единое целое в рамках произведения, становятся репрезентацией мира в его завершенности, «в энциклопедической полноте его тем» [27].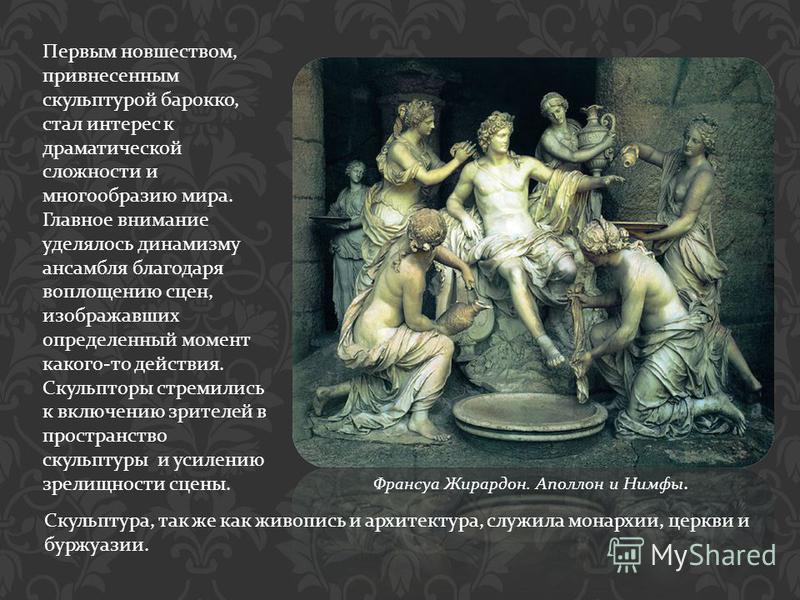 Неслучайно наиболее характерным жанром барочной эпохи становится эмблема, концентрирующая в себе неразличенность художественного, морального и истинного, заключающая их в герметичном единстве, способном вобрать в себя — семантически — целый мир. Эмблеме Михайлов посвящает отдельную главу своей монографии «Поэтика барокко». Эмблематизм трактуется автором как инструмент художественного мышления эпохи барокко, связанный с так называемой традицией «сигнификативной речи» (Хармс, Рейнитцер) [28]: традицией непрерывного аллегорического толкования любых явлений и вещей, являющейся неотъемлемой характеристикой морально-риторической системы. В эмблематике барокко, через доминирование вербального над визуальным, наиболее ярко отражается логоцентризм эпохи, в которой слово «сильнее, важнее и даже существеннее (и в конечном счете действительнее) действительности, оно сильнее и автора, который встречает его как “объективную” силу, лежащую на его пути; как автор, он распоряжается словом, но только в той мере, в какой это безусловно не принадлежащее ему слово позволяет ему распоряжаться собою как общим достоянием или реальностью своего рода» [29].
Неслучайно наиболее характерным жанром барочной эпохи становится эмблема, концентрирующая в себе неразличенность художественного, морального и истинного, заключающая их в герметичном единстве, способном вобрать в себя — семантически — целый мир. Эмблеме Михайлов посвящает отдельную главу своей монографии «Поэтика барокко». Эмблематизм трактуется автором как инструмент художественного мышления эпохи барокко, связанный с так называемой традицией «сигнификативной речи» (Хармс, Рейнитцер) [28]: традицией непрерывного аллегорического толкования любых явлений и вещей, являющейся неотъемлемой характеристикой морально-риторической системы. В эмблематике барокко, через доминирование вербального над визуальным, наиболее ярко отражается логоцентризм эпохи, в которой слово «сильнее, важнее и даже существеннее (и в конечном счете действительнее) действительности, оно сильнее и автора, который встречает его как “объективную” силу, лежащую на его пути; как автор, он распоряжается словом, но только в той мере, в какой это безусловно не принадлежащее ему слово позволяет ему распоряжаться собою как общим достоянием или реальностью своего рода» [29]. Целостно-репрезентирующий характер барочного произведения рассматривается А.В. Михайловым в контексте теории смены литературных эпох как исторических типов творческого сознания. Кроме того, исследователь предпринимает попытку, отказавшись от взгляда на это особенное устройство барочного произведения «свысока», осмыслить его в его же собственной логике, установив своего рода презумпцию невиновности или, иными словами, признав за подобным отношением к интеллектуальной культуре, представляющей для любого «нормального» историка сугубо археологический интерес, право на существование для нас. Достаточно хотя бы того, что именно из этого состояния культуры и рождается в итоге то, что станет причиной распада морально-риторической системы. Глобальная задача Михайлова — показать генетическое родство нововременного мышления человека, мира и их взаимной расположенности, доходящего в своем логическом завершении до их резкого противоположения. В интерпретации Михайлова изначальной и потому естественной является неразличенность человека и мира.
Целостно-репрезентирующий характер барочного произведения рассматривается А.В. Михайловым в контексте теории смены литературных эпох как исторических типов творческого сознания. Кроме того, исследователь предпринимает попытку, отказавшись от взгляда на это особенное устройство барочного произведения «свысока», осмыслить его в его же собственной логике, установив своего рода презумпцию невиновности или, иными словами, признав за подобным отношением к интеллектуальной культуре, представляющей для любого «нормального» историка сугубо археологический интерес, право на существование для нас. Достаточно хотя бы того, что именно из этого состояния культуры и рождается в итоге то, что станет причиной распада морально-риторической системы. Глобальная задача Михайлова — показать генетическое родство нововременного мышления человека, мира и их взаимной расположенности, доходящего в своем логическом завершении до их резкого противоположения. В интерпретации Михайлова изначальной и потому естественной является неразличенность человека и мира. Риторика как способ творческого мышления эпохи, единственный и безальтернативный (что вовсе не означает: сковывающий и схлопывающий пространство свободы!), в своей всеобщности «овладевает всем»: все жизненное, историческое, реальное, проникая в художественное произведение, по умолчанию «препарируется» риторикой; оно не обладает никакой самоценностью и всегда стоит на ее службе [30]. В эту эпоху литератору ничего не стоит стать историком: средневековые хроники уходят в прошлое, а цицеронианское понимание истории, кажется, всецело начинает определять осмысление прошлого «барочным» человеком. Барокко — время эрудитства и полигисторства. Показателен в этой связи анализ исторических представлений немецкого ученого поэта XVII века Зигмунда фон Биркена, осуществленный А.В. Михайловым [31]. Исследователь обращает внимание на наличие у Биркена трех видов исторического нарратива, среди которых анналы, с их прямым и последовательным изложением исторических событий, занимают последнее место в иерархии жанров исторического письма; приоритет явно отдается «поэтической истории» (Gedichtgeschicht) и «исторической поэзии» (Geschichtgedicht), глубоко риторичным по сути.
Риторика как способ творческого мышления эпохи, единственный и безальтернативный (что вовсе не означает: сковывающий и схлопывающий пространство свободы!), в своей всеобщности «овладевает всем»: все жизненное, историческое, реальное, проникая в художественное произведение, по умолчанию «препарируется» риторикой; оно не обладает никакой самоценностью и всегда стоит на ее службе [30]. В эту эпоху литератору ничего не стоит стать историком: средневековые хроники уходят в прошлое, а цицеронианское понимание истории, кажется, всецело начинает определять осмысление прошлого «барочным» человеком. Барокко — время эрудитства и полигисторства. Показателен в этой связи анализ исторических представлений немецкого ученого поэта XVII века Зигмунда фон Биркена, осуществленный А.В. Михайловым [31]. Исследователь обращает внимание на наличие у Биркена трех видов исторического нарратива, среди которых анналы, с их прямым и последовательным изложением исторических событий, занимают последнее место в иерархии жанров исторического письма; приоритет явно отдается «поэтической истории» (Gedichtgeschicht) и «исторической поэзии» (Geschichtgedicht), глубоко риторичным по сути.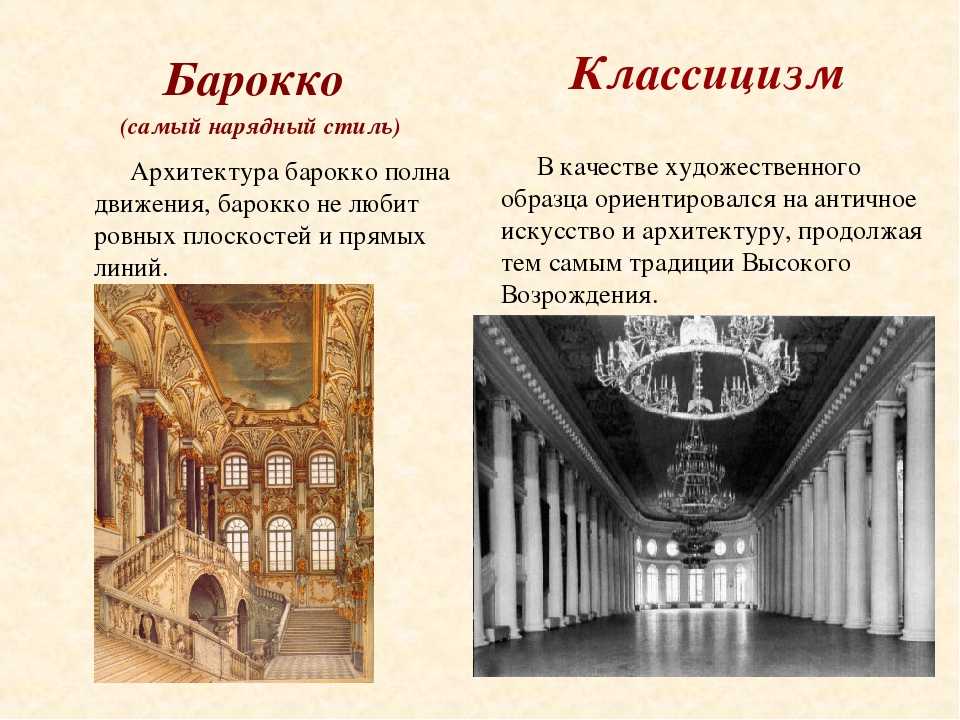 Представление об исторической истине является в эпоху барокко, как показывает Михайлов, тесно связанным со сферами морального и поэтического одновременно. Риторическая культура осмысляет прошлое принципиально однотипно, для нее истина оказывается в зависимости от категорий вероятного и возможного. Барочный поэт в интерпретации Михайлова мыслит вероятное и возможное в истории как потенциально-реальное, он создает один из возможных, потенциальных миров, что, в рамках барочного мышления, само по себе наделяет такой мир статусом реального и историчного [32]. В рамках этой логики переплетение «реальной» истории с вымыслом — не просто в порядке вещей. Оно не только не препятствует постижению этой «реальной» истории, но, напротив, лишь способствует ему. Даже поэзия Гомера становится здесь источником «подлинного» знания о «реальном» прошлом, как оно понималось в риторической культуре, в которое для наглядности вплетены всевозможные сведения и детали акцидентального характера [33]. Морально-риторическая система «строится на таком осмыслении истории, в котором сумма разнообразных, например, естественно-научных сведений и знание истории, сведения о ней, не разошлись настолько, чтобы препятствовать объединению их в одно однородное, “гомогенное” целое» [34].
Представление об исторической истине является в эпоху барокко, как показывает Михайлов, тесно связанным со сферами морального и поэтического одновременно. Риторическая культура осмысляет прошлое принципиально однотипно, для нее истина оказывается в зависимости от категорий вероятного и возможного. Барочный поэт в интерпретации Михайлова мыслит вероятное и возможное в истории как потенциально-реальное, он создает один из возможных, потенциальных миров, что, в рамках барочного мышления, само по себе наделяет такой мир статусом реального и историчного [32]. В рамках этой логики переплетение «реальной» истории с вымыслом — не просто в порядке вещей. Оно не только не препятствует постижению этой «реальной» истории, но, напротив, лишь способствует ему. Даже поэзия Гомера становится здесь источником «подлинного» знания о «реальном» прошлом, как оно понималось в риторической культуре, в которое для наглядности вплетены всевозможные сведения и детали акцидентального характера [33]. Морально-риторическая система «строится на таком осмыслении истории, в котором сумма разнообразных, например, естественно-научных сведений и знание истории, сведения о ней, не разошлись настолько, чтобы препятствовать объединению их в одно однородное, “гомогенное” целое» [34]. Скрупулезно исследуя неразличенность научного и прочих видов знания о прошлом в барочных произведениях, А.В. Михайлов стремится показать естественность такого понимания прошлого, сложившегося в рамках морально-риторической системы, демонстрируя, что это понимание не выходит за пределы знаменитого положения Аристотеля из девятой главы его «Поэтики», согласно которому поэзии отдается приоритет перед историей в силу своей «философичности» и «серьезности», поскольку она говорит об общем (а это значит: о том, что было реально в этико-риторическом понимании реальности), а не о единичном, акцидентальном (что означает: лишь о вероятном и возможном). «…Всеобщим для долгих веков остается убеждение в том, что знание, какое несет в себе и дает поэзия, есть знание моральное, относящееся к нравам человека, к человеческой природе вообще. Это знание связывает человека с высшим, необходимым, положенным, должным, подобающим — с вечно-неизменным и ценностно-нормативным» [35].
Скрупулезно исследуя неразличенность научного и прочих видов знания о прошлом в барочных произведениях, А.В. Михайлов стремится показать естественность такого понимания прошлого, сложившегося в рамках морально-риторической системы, демонстрируя, что это понимание не выходит за пределы знаменитого положения Аристотеля из девятой главы его «Поэтики», согласно которому поэзии отдается приоритет перед историей в силу своей «философичности» и «серьезности», поскольку она говорит об общем (а это значит: о том, что было реально в этико-риторическом понимании реальности), а не о единичном, акцидентальном (что означает: лишь о вероятном и возможном). «…Всеобщим для долгих веков остается убеждение в том, что знание, какое несет в себе и дает поэзия, есть знание моральное, относящееся к нравам человека, к человеческой природе вообще. Это знание связывает человека с высшим, необходимым, положенным, должным, подобающим — с вечно-неизменным и ценностно-нормативным» [35]. В осмыслении рассматриваемой проблемы четко прослеживается исследовательская программа Михайлова: отказ от обыденных и для нововременного человека само собой разумеющихся представлений о реальном и вымышленном и стремление на этом основании постичь логику бытования представлений о прошлом в морально-риторической системе координат.
В осмыслении рассматриваемой проблемы четко прослеживается исследовательская программа Михайлова: отказ от обыденных и для нововременного человека само собой разумеющихся представлений о реальном и вымышленном и стремление на этом основании постичь логику бытования представлений о прошлом в морально-риторической системе координат.
Однако лишь этим замысел А.В. Михайлова не исчерпывается. Как мы помним, правильная исследовательская позиция здесь несводима к правильной «методологии». Вопрошая прошлое о нем самом, мы вопрошаем как включенные в непрерывный исторический процесс, который этим прошлым обусловлен. Следовательно, мышление истории, каким оно существовало в рамках традиционной культуры, имеет для нас сегодня особенное значение. Так поставленный вопрос и так понятое мышление о прошлом очевидно имеют своим источником философскую герменевтику Г.-Г. Гадамера, который первым заговорил о том, что история «в традиции риторико-гуманистического образования», начиная, как минимум, с Цицерона, понимается как «совершенно иной источник истины, нежели теоретический разум» [36].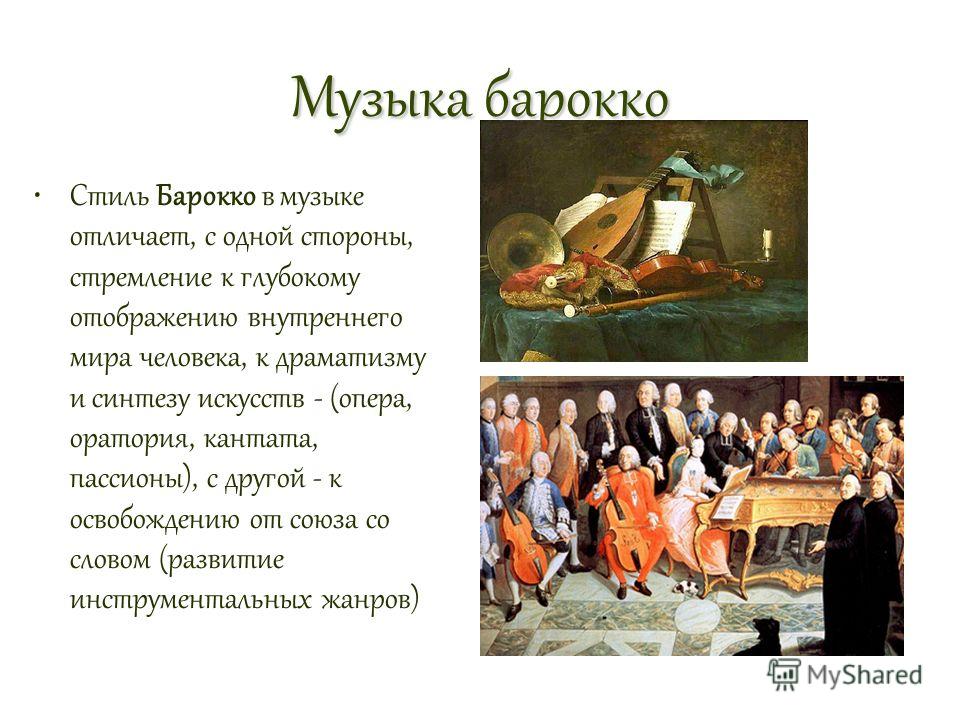 И хотя подобное представление обусловило глубоко второстепенное положение истории и исторического нарратива по отношению к другим наукам и жанрам, Гадамер акцентирует внимание на позитивном моменте подобного осмысления, который был впервые тематизирован в творчестве Джамбаттисты Вико: «В конце концов, издавна существовало знание о том, что возможности рационального доказательства и учения не полностью исчерпывают сферу познания» [37]. Положение Г.-Г. Гадамера об особой связи, особом отношении гуманитарного познания и искусства к «истине», о некотором родстве этих двух переменных, является важной предпосылкой для А.В. Михайлова. Показывая нераздельность научного знания о мире в эпоху барокко с тем знанием, которое заключает в себе произведение искусства — произведение, как бы «вбирающее» в себя целый мир, — Михайлов обращается к этой эпохе как содержащей исторический материал, который отражает этот модус бытования знания, как к точке невозврата, из которой рождается наука Нового времени, утверждающаяся через выработку собственного метода и обоснование своего собственного предмета, то есть, фактически, через утверждение того, что она не есть, через освобождение от этой связи с «миром».
И хотя подобное представление обусловило глубоко второстепенное положение истории и исторического нарратива по отношению к другим наукам и жанрам, Гадамер акцентирует внимание на позитивном моменте подобного осмысления, который был впервые тематизирован в творчестве Джамбаттисты Вико: «В конце концов, издавна существовало знание о том, что возможности рационального доказательства и учения не полностью исчерпывают сферу познания» [37]. Положение Г.-Г. Гадамера об особой связи, особом отношении гуманитарного познания и искусства к «истине», о некотором родстве этих двух переменных, является важной предпосылкой для А.В. Михайлова. Показывая нераздельность научного знания о мире в эпоху барокко с тем знанием, которое заключает в себе произведение искусства — произведение, как бы «вбирающее» в себя целый мир, — Михайлов обращается к этой эпохе как содержащей исторический материал, который отражает этот модус бытования знания, как к точке невозврата, из которой рождается наука Нового времени, утверждающаяся через выработку собственного метода и обоснование своего собственного предмета, то есть, фактически, через утверждение того, что она не есть, через освобождение от этой связи с «миром». Таким образом, в анализе устройства произведения искусства в эпоху барокко, его тесной взаимосвязи с научным знанием о мире, А.В. Михайлов будто бы стремится открыть источник своих собственных представлений о научности, переосмыслив их через парадоксальную попытку возвращения к этой точке невозврата, которое должно осуществиться в процессе самоосмысления гуманитарной науки; это самоосмысление принципиально позиционируется не как проект, но как становящаяся на определенном этапе развития научного знания очевидной необходимость [38], и задача исследователя здесь — ответить на этот вызов. А.В. Михайлов утверждает, что «есть науки, в которых невозможно, немыслимо отложившееся знание и в которых нет почвы для самодовольного обладания таковым» [39]. В этом отношении его концепция созвучна теории итальянского историка философии Марио Папини, который, на основании анализа научных трактатов XVII — начала XVIII столетия (Р. Декарт, Т. Гоббс, Б. Спиноза, Р. Мальбранш, Лейбниц, Дж.
Таким образом, в анализе устройства произведения искусства в эпоху барокко, его тесной взаимосвязи с научным знанием о мире, А.В. Михайлов будто бы стремится открыть источник своих собственных представлений о научности, переосмыслив их через парадоксальную попытку возвращения к этой точке невозврата, которое должно осуществиться в процессе самоосмысления гуманитарной науки; это самоосмысление принципиально позиционируется не как проект, но как становящаяся на определенном этапе развития научного знания очевидной необходимость [38], и задача исследователя здесь — ответить на этот вызов. А.В. Михайлов утверждает, что «есть науки, в которых невозможно, немыслимо отложившееся знание и в которых нет почвы для самодовольного обладания таковым» [39]. В этом отношении его концепция созвучна теории итальянского историка философии Марио Папини, который, на основании анализа научных трактатов XVII — начала XVIII столетия (Р. Декарт, Т. Гоббс, Б. Спиноза, Р. Мальбранш, Лейбниц, Дж. Вико), пришел к выводу о специфике барочной науки, характеризуемой, по его мнению, понятием «конативности» (conatività) [40]. Смысл этой концепции заключается в том, что в XVII веке происходит переход к новой онтологической установке, ключевую роль в которой играет понятие conatus («усилие»). «Субстанциалистской» концепции, опиравшейся во многом на базовые категории метафизики Аристотеля и понимавшей философский и научный поиск как переход от движения удивления (admiratio) к статическому состоянию, которое и представляет собой знание, в XVII веке, по мнению М. Папини, противостоит так называемая «конативная» концепция, которая стремится заменить кумулятивное представление о знании «чистыми состояниями напряжения», внутренне присущими бытию [41]. Метафорическим выражением специфики барочной мысли являются поэтому такие содержащие в себе оксюморон понятия, как «динамическая гармония», или «статичное движение», воплощенной в метафоре вибрации. Папини говорит о conatus’e как о modulo epocale, концептуальной матрице мысли барочной эпохи, демонстрируя это на примере того, как большинство ключевых мыслителей этого времени приходят к использованию представления о напряженности, выражаемого непосредственно этим термином, либо использованием целой гаммы его синонимов, либо же логико-риторической структуры речи, отражающей это базовое состояние напряжения [42].
Вико), пришел к выводу о специфике барочной науки, характеризуемой, по его мнению, понятием «конативности» (conatività) [40]. Смысл этой концепции заключается в том, что в XVII веке происходит переход к новой онтологической установке, ключевую роль в которой играет понятие conatus («усилие»). «Субстанциалистской» концепции, опиравшейся во многом на базовые категории метафизики Аристотеля и понимавшей философский и научный поиск как переход от движения удивления (admiratio) к статическому состоянию, которое и представляет собой знание, в XVII веке, по мнению М. Папини, противостоит так называемая «конативная» концепция, которая стремится заменить кумулятивное представление о знании «чистыми состояниями напряжения», внутренне присущими бытию [41]. Метафорическим выражением специфики барочной мысли являются поэтому такие содержащие в себе оксюморон понятия, как «динамическая гармония», или «статичное движение», воплощенной в метафоре вибрации. Папини говорит о conatus’e как о modulo epocale, концептуальной матрице мысли барочной эпохи, демонстрируя это на примере того, как большинство ключевых мыслителей этого времени приходят к использованию представления о напряженности, выражаемого непосредственно этим термином, либо использованием целой гаммы его синонимов, либо же логико-риторической структуры речи, отражающей это базовое состояние напряжения [42]. Нет никаких оснований полагать, что А.В. Михайлов был знаком с концепцией М. Папини; тем интересней отметить общую интуицию, объединяющую историка барочной науки и историка барочной литературы в их попытках концептуализировать специфику барочной мысли, которые для А.В. Михайлова соединились с требованием реактуализации опыта эпохи барокко для современной «науки о духе» (см. приведенный выше тезис из параграфа 14 его сочинения под названием «Несколько тезисов о теории литературы»). Мысль А.В. Михайлова, сам его научный язык отражает это состояние проблематизации знания через требование отказа от предпосылок собственной позиции по отношению к прошлому и, таким образом, его историзации: он принципиально игнорирует такие каноны академического письма, как структурированность изложения и четкость терминологического аппарата (причем отрицание последнего пункта базируется на неприятии пустых понятий и стремлении сделать разговор как можно более предметным, для чего обобщающие категории вроде «барокко» и «классицизма» подходят лишь весьма условно).
Нет никаких оснований полагать, что А.В. Михайлов был знаком с концепцией М. Папини; тем интересней отметить общую интуицию, объединяющую историка барочной науки и историка барочной литературы в их попытках концептуализировать специфику барочной мысли, которые для А.В. Михайлова соединились с требованием реактуализации опыта эпохи барокко для современной «науки о духе» (см. приведенный выше тезис из параграфа 14 его сочинения под названием «Несколько тезисов о теории литературы»). Мысль А.В. Михайлова, сам его научный язык отражает это состояние проблематизации знания через требование отказа от предпосылок собственной позиции по отношению к прошлому и, таким образом, его историзации: он принципиально игнорирует такие каноны академического письма, как структурированность изложения и четкость терминологического аппарата (причем отрицание последнего пункта базируется на неприятии пустых понятий и стремлении сделать разговор как можно более предметным, для чего обобщающие категории вроде «барокко» и «классицизма» подходят лишь весьма условно).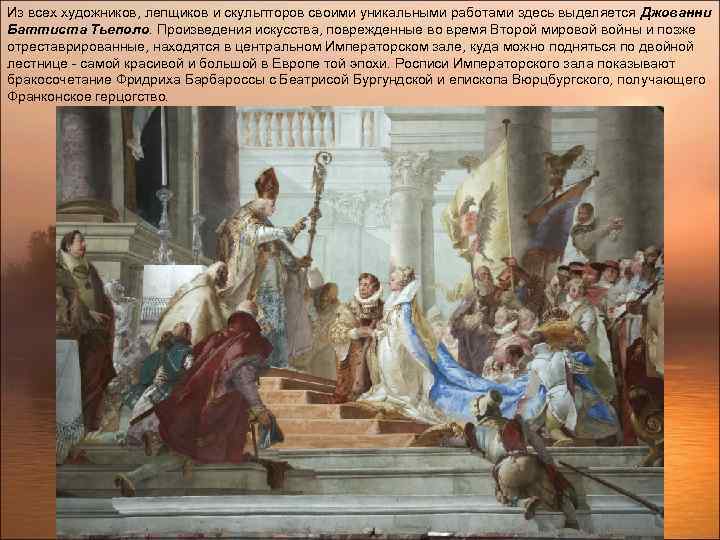 Его теоретические основания не предстают нигде в завершенной и четко изложенной форме, но как бы конструируются в процессе работы с историческим материалом. Неслучайно специальная работа Михайлова, призванная очертить современное состояние «науки о литературе» (и единственное его собственно теоретическое исследование), написана в тезисной форме в жанре философского трактата. Герменевтическая установка Михайлова сводится в итоге к тому, что работа с источником здесь рождает понимание того, как с ним работать, а не наоборот; если и возможен какой-то теоретический конструкт, то он должен сложиться на основании исторического материала, в противном же случае, если мы не овладеем языком источника и не заговорим с ним на его собственном языке (т.е. не осуществим «обратный перевод»), мы лишь получим подогнанный под наши готовые суждения материал, укрепимся в собственном заблуждении.
Его теоретические основания не предстают нигде в завершенной и четко изложенной форме, но как бы конструируются в процессе работы с историческим материалом. Неслучайно специальная работа Михайлова, призванная очертить современное состояние «науки о литературе» (и единственное его собственно теоретическое исследование), написана в тезисной форме в жанре философского трактата. Герменевтическая установка Михайлова сводится в итоге к тому, что работа с источником здесь рождает понимание того, как с ним работать, а не наоборот; если и возможен какой-то теоретический конструкт, то он должен сложиться на основании исторического материала, в противном же случае, если мы не овладеем языком источника и не заговорим с ним на его собственном языке (т.е. не осуществим «обратный перевод»), мы лишь получим подогнанный под наши готовые суждения материал, укрепимся в собственном заблуждении.
Специфика устройства барочного произведения искусства в трактовке А.В. Михайлова, его положение о взаимосвязи трансформации жанровой системы и форм художественного сознания подводят нас к вопросу о специфическом способе мыслить человека, или, иными словами, к историко-антропологической концепции барокко. Согласно Михайлову, произведение искусства в эпоху барокко не только не обладает значением само по себе (так как в своем крайнем выражении стремится «охватить» весь мир), но и лишается также принадлежности какому-либо конкретному «я». Более того, мы вообще не находим в подобном произведении никакого «я», сознающего свою исключительную обособленность.
Согласно Михайлову, произведение искусства в эпоху барокко не только не обладает значением само по себе (так как в своем крайнем выражении стремится «охватить» весь мир), но и лишается также принадлежности какому-либо конкретному «я». Более того, мы вообще не находим в подобном произведении никакого «я», сознающего свою исключительную обособленность.
В центре внимания Михайлова — литературное творчество немецкоязычных авторов XVII века (А. Грифиус, Й. Шеффлер, Д. Лоэнштейн, Х. Гриммельсхаузен, Й. Рист, М. Опиц, К. Вейзе). Анализируя строение барочной драмы, пытаясь ответить на вопрос о том, как понималось само произведение в XVII веке, Михайлов реконструирует способ мышления ранненововременного человека, его отношение к миру и времени, к бытию и трансцендентному. Отрицая классические способы осмысления барокко в науке, характеризуемые категориями «вырождения», «перехода» и «побочности» (когда барокко рассматривается исследователями как «отклонение от нормы» [43], независимо от того, положительно или отрицательно они оценивают этот феномен), Михайлов говорит о барокко как о своеобразном «стиле эпохи», который является вершиной и одновременно закатом риторической культуры слова, существовавшей на протяжении тысячелетий.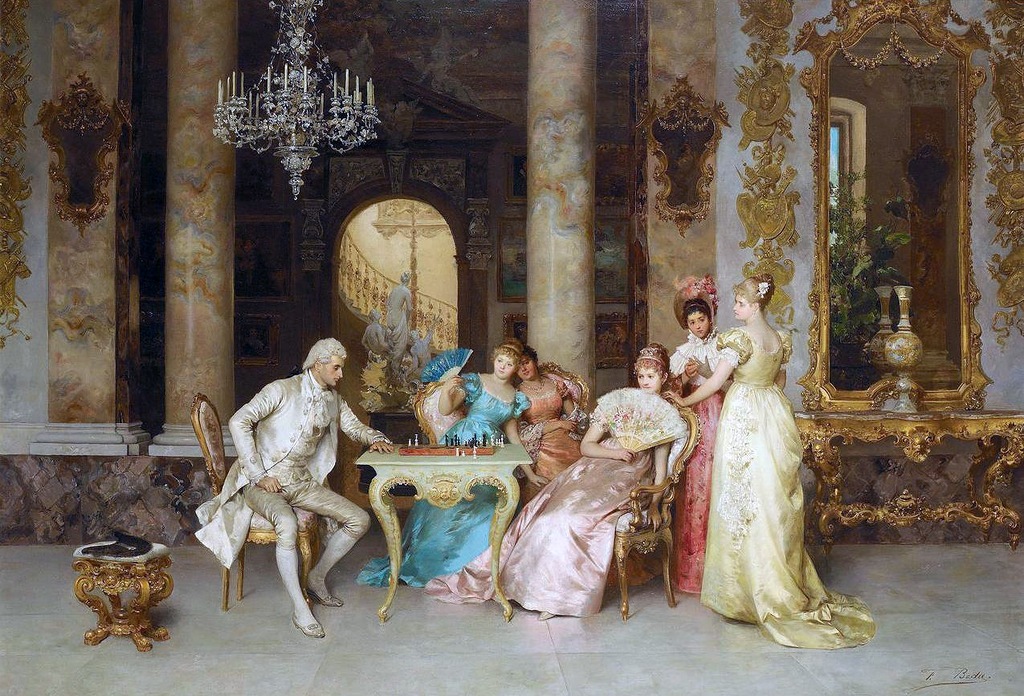 Барокко — финал традиционной культуры, состояние «нестабильности и напряжения» морально-риторической системы. В таком качестве барокко, обозначившее себя на рубеже Средневековья и раннего Нового времени, знаменует, как следует из работ А.В. Михайлова, переход к новому способу мыслить человека как личность и индивидуальность. В работе «Время и безвременье в поэзии немецкого барокко» Михайлов показывает, как в эпоху реформации и Тридцатилетней войны в поэтическом творчестве укрепляется в качестве доминирующего пессимистическое отношение к миру, которое, в свою очередь, ведет к постепенному отказу от устоявшейся картины мира, или, по выражению В. Беньямина, к переходу от эсхатологического стремления к спасению, когда во главе угла стоит «тщетность мирских деяний и бренность всякой твари как промежуточное состояние на пути к спасению», к бегству в лишенную благодати природу, к «погружению в безутешность земного мироустройства» [44]. Следствием этого, согласно Михайлову, становится так называемая «трансценденция христианства», описанная им в работе «Немецкая драма XVII века»: «Стремление укрепить христианское мировоззрение ищет для себя подкрепление в образной системе [барочного произведения], а на то, как эта система образов растет, начинает жить собственной жизнью и, наконец, превращается в особенный, пышно цветущий мир, оказывает свое давление история, ее опыт и ее переживание — переживание истории как катастрофы» [45].
Барокко — финал традиционной культуры, состояние «нестабильности и напряжения» морально-риторической системы. В таком качестве барокко, обозначившее себя на рубеже Средневековья и раннего Нового времени, знаменует, как следует из работ А.В. Михайлова, переход к новому способу мыслить человека как личность и индивидуальность. В работе «Время и безвременье в поэзии немецкого барокко» Михайлов показывает, как в эпоху реформации и Тридцатилетней войны в поэтическом творчестве укрепляется в качестве доминирующего пессимистическое отношение к миру, которое, в свою очередь, ведет к постепенному отказу от устоявшейся картины мира, или, по выражению В. Беньямина, к переходу от эсхатологического стремления к спасению, когда во главе угла стоит «тщетность мирских деяний и бренность всякой твари как промежуточное состояние на пути к спасению», к бегству в лишенную благодати природу, к «погружению в безутешность земного мироустройства» [44]. Следствием этого, согласно Михайлову, становится так называемая «трансценденция христианства», описанная им в работе «Немецкая драма XVII века»: «Стремление укрепить христианское мировоззрение ищет для себя подкрепление в образной системе [барочного произведения], а на то, как эта система образов растет, начинает жить собственной жизнью и, наконец, превращается в особенный, пышно цветущий мир, оказывает свое давление история, ее опыт и ее переживание — переживание истории как катастрофы» [45]. Таким образом, возникает «надхристиански-барочная картина мира, времени, вечности, истории», отличительной особенностью которой является стоическое отношение к миру. Но, пишет Михайлов, «то, что залетает “выше” христианства, может в конце концов и освободиться от всякого христианства. Стоицизм может освободиться от целей утверждения веры и может стать этикой как таковой, самоутверждением личности как особой ценности» [46]. Именно это, согласно данной интерпретации немецкой Trauerspiel, и происходит в эпоху барокко.
Таким образом, возникает «надхристиански-барочная картина мира, времени, вечности, истории», отличительной особенностью которой является стоическое отношение к миру. Но, пишет Михайлов, «то, что залетает “выше” христианства, может в конце концов и освободиться от всякого христианства. Стоицизм может освободиться от целей утверждения веры и может стать этикой как таковой, самоутверждением личности как особой ценности» [46]. Именно это, согласно данной интерпретации немецкой Trauerspiel, и происходит в эпоху барокко.
В этом смысле монография Михайлова «Поэтика барокко», написанная во многом под влиянием теории романа Бахтина, является гимном человеку во всей его противоречивости и уникальности. Можно полагать, что она представляет собой реакцию на антропологический редукционизм, широко распространившийся в ХХ веке вместе с утверждением нового антропологического типа, названного Х. Ортега-и-Гассетом «массовым человеком» [47]. Человек традиционной культуры и венчающей ее эпохи барокко способен открыть свою индивидуальность только за пределами навязанных ему обществом-театром социальных ролей, ее размывающих, подменяющих индивидуальную личность театральными масками [48].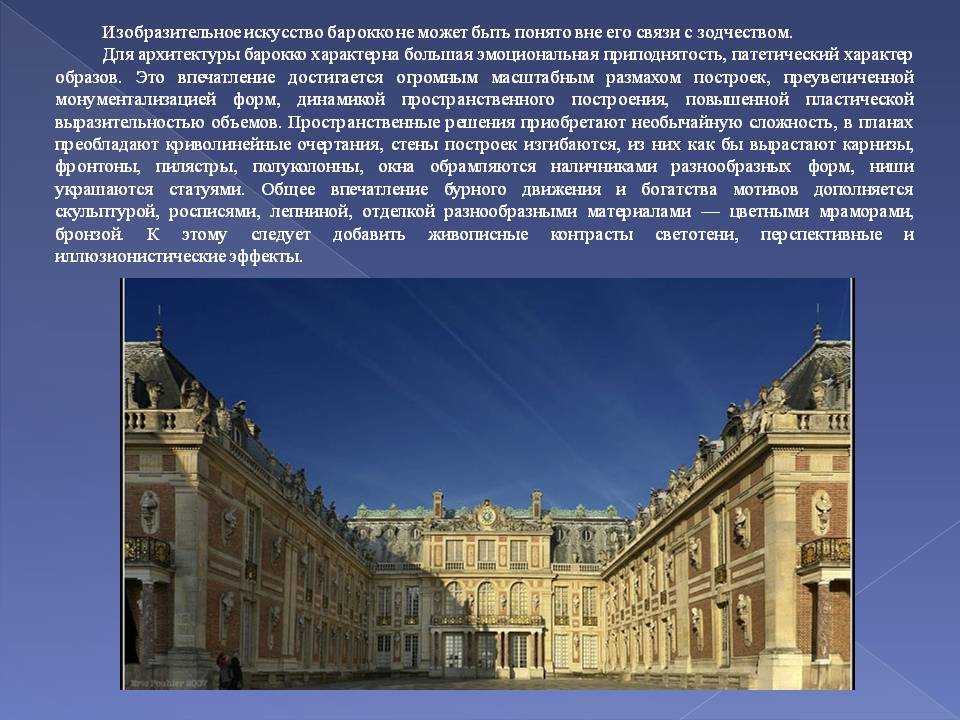 Метафора театра, активно использовавшаяся самими барочными авторами, играет здесь ключевую роль: отсутствие представления об индивидуальности доводится в эпоху барокко до предела. Здесь не существует представления о «внутреннем мире» человека: «Погрузившись в себя, — пишет Михайлов, — человек мог обнаружить только Бога» [49]; человек эпохи барокко идентифицирует себя как иное навязанных ему извне ролей. А это означает, что человек способен «обрести себя», лишь полностью растворившись в этом мире, отказавшись исполнять предписанные роли, т.е. отказавшись от существования в качестве простой репрезентации типического. Отсюда — один шаг до рождения современного представления о человеческой личности.
Метафора театра, активно использовавшаяся самими барочными авторами, играет здесь ключевую роль: отсутствие представления об индивидуальности доводится в эпоху барокко до предела. Здесь не существует представления о «внутреннем мире» человека: «Погрузившись в себя, — пишет Михайлов, — человек мог обнаружить только Бога» [49]; человек эпохи барокко идентифицирует себя как иное навязанных ему извне ролей. А это означает, что человек способен «обрести себя», лишь полностью растворившись в этом мире, отказавшись исполнять предписанные роли, т.е. отказавшись от существования в качестве простой репрезентации типического. Отсюда — один шаг до рождения современного представления о человеческой личности.
Вопрос о том, как осмысляется человек, имеет для А.В. Михайлова первостепенную важность в контексте истории науки. От ответа на этот вопрос зависят, по его мнению, и «аксиоматические» положения науки [50], а открытие и обоснование новых положений для «наук о духе», как мы уже установили, является для Михайлова первоочередной задачей. Здесь становится очевидной значимость антропологического аспекта его теории барокко: если в XVII столетии мы можем наблюдать начало формирования представления об индивидуальности, личности и «внутреннем мире» человеческого существа, то XIX век доводит этот процесс до завершения: мы видим, как доминантой интеллектуальной культуры становится стремление осмыслить человека во всей его полноте, сделав его мерой всех вещей. Поэтому XIX век А.В. Михайлов называет веком антропологическим, эпохой историзма и психологизма. Однако такая модель научности, которая формируется в XIX веке, обладает, по мнению Михайлова, хроническим недостатком: в ее пределах человек очень быстро осмысляет и исчерпывает себя. Но поскольку гуманитарная наука, понятая историцистски, «должна все же устанавливать историческую реальность прошедших эпох, то она не может удовлетворяться лишь тем, что внутри ее выражает себя все одна и та же сущность человека, каким он понимает себя сейчас… [Она] не может удовлетворяться тем, что внутри ее сущность такого человека встречается сама с собою и узнает в ней сама себя» [51].
Здесь становится очевидной значимость антропологического аспекта его теории барокко: если в XVII столетии мы можем наблюдать начало формирования представления об индивидуальности, личности и «внутреннем мире» человеческого существа, то XIX век доводит этот процесс до завершения: мы видим, как доминантой интеллектуальной культуры становится стремление осмыслить человека во всей его полноте, сделав его мерой всех вещей. Поэтому XIX век А.В. Михайлов называет веком антропологическим, эпохой историзма и психологизма. Однако такая модель научности, которая формируется в XIX веке, обладает, по мнению Михайлова, хроническим недостатком: в ее пределах человек очень быстро осмысляет и исчерпывает себя. Но поскольку гуманитарная наука, понятая историцистски, «должна все же устанавливать историческую реальность прошедших эпох, то она не может удовлетворяться лишь тем, что внутри ее выражает себя все одна и та же сущность человека, каким он понимает себя сейчас… [Она] не может удовлетворяться тем, что внутри ее сущность такого человека встречается сама с собою и узнает в ней сама себя» [51]. Именно из этого положения вырастают требование Михайлова к осознанию ограниченности нововременного образа человека и проект исследования барочной антропологии. На этом основании он призывает к отказу от наивной веры в существование некой «общечеловеческой естественности», влекущей за собой рассмотрение человеческого сознания на протяжении веков в качестве константы. Только в таком случае, согласно Михайлову, возможно снять ограничение для исторического мышления и создать предпосылки для формирования более адекватного образа человека разных эпох, постижения «конкретных типов культуры» и понимания различных «языков культуры».
Именно из этого положения вырастают требование Михайлова к осознанию ограниченности нововременного образа человека и проект исследования барочной антропологии. На этом основании он призывает к отказу от наивной веры в существование некой «общечеловеческой естественности», влекущей за собой рассмотрение человеческого сознания на протяжении веков в качестве константы. Только в таком случае, согласно Михайлову, возможно снять ограничение для исторического мышления и создать предпосылки для формирования более адекватного образа человека разных эпох, постижения «конкретных типов культуры» и понимания различных «языков культуры».
Мотив возвращения — вот что объединяет всю теоретическую конструкцию А.В. Михайлова. Возвращение как переоткрытие человека самим себя, что одновременно означает: переосмысление аксиоматики гуманитарного познания, с которым Михайлов связывает возможность качественного обновления «наук о духе». Перед нами — реализация герменевтического проекта по установлению связи науки с «жизненным миром» человека путем историзации и возвращения к истокам, традиции. Тема возвращения заимствована исследователем из философии М. Хайдеггера, конкретно — из осмысления его знаменитого «Проселка»: Михайлов выступил в роли переводчика и комментатора этого текста в своем эссе «Мартин Хайдеггер: человек в мире». Именно из указанного текста Хайдеггера исследователь берет представление о возвращении, «которое утверждает себя как благой и торжественный итог жизни, окончательное совпадение “ландшафта” и человека, пути жизни и родного пути, родной дороги» [52]. Принципиальная новация Михайлова — разработка исторического аспекта самоосмысления человека в мире как в таком пространстве, «в котором человек находит свое подлинное место и свой смысл» [53].
Тема возвращения заимствована исследователем из философии М. Хайдеггера, конкретно — из осмысления его знаменитого «Проселка»: Михайлов выступил в роли переводчика и комментатора этого текста в своем эссе «Мартин Хайдеггер: человек в мире». Именно из указанного текста Хайдеггера исследователь берет представление о возвращении, «которое утверждает себя как благой и торжественный итог жизни, окончательное совпадение “ландшафта” и человека, пути жизни и родного пути, родной дороги» [52]. Принципиальная новация Михайлова — разработка исторического аспекта самоосмысления человека в мире как в таком пространстве, «в котором человек находит свое подлинное место и свой смысл» [53].
Теория барокко А.В. Михайлова представляет собой законченную и детально разработанную концепцию, которая является уникальным феноменом в отечественной гуманитарной науке. В то же время, ее эвристический потенциал как для историографии, так и для философии остается в полной мере не освоенным.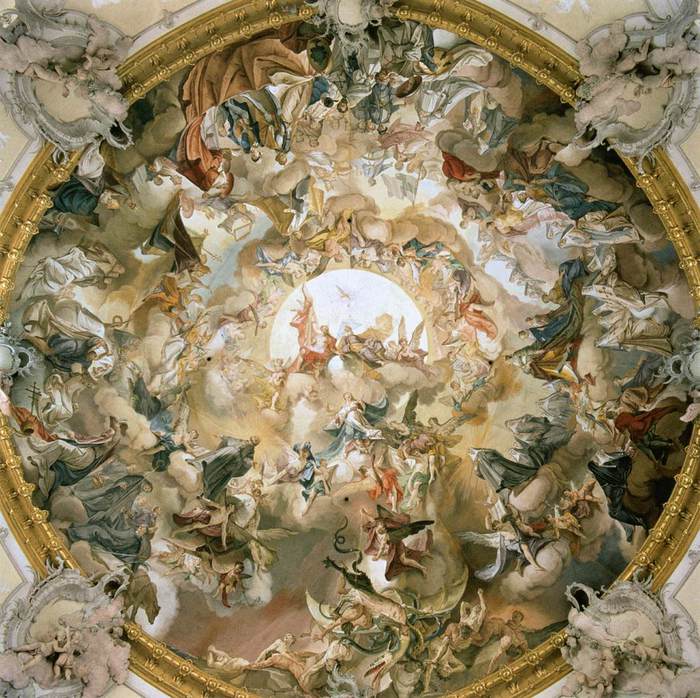 Виной тому, в значительной степени, общественно-политический и исторический контекст, в котором материал раннего Нового времени, на который и опирался Михайлов, оказался невостребованным. Теория барокко как часть исследовательского проекта Михайлова именно в этом качестве не была ранее сформулирована и осмыслена; а то, что было воспринято из наследия Михайлова другими исследователями барокко, носило лишь фрагментарный характер и осмыслялось вне необходимого для подобного осмысления философски-теоретического обрамления. Таким образом, исследование рецепции наследия А.В. Михайлова в советской и постсоветской гуманитаристике (и, в особенности, применительно к барокко) — актуальный вопрос для будущего исследования, рассмотрение которого способно осветить насущные проблемы состояния гуманитарного знания и научного сообщества.
Виной тому, в значительной степени, общественно-политический и исторический контекст, в котором материал раннего Нового времени, на который и опирался Михайлов, оказался невостребованным. Теория барокко как часть исследовательского проекта Михайлова именно в этом качестве не была ранее сформулирована и осмыслена; а то, что было воспринято из наследия Михайлова другими исследователями барокко, носило лишь фрагментарный характер и осмыслялось вне необходимого для подобного осмысления философски-теоретического обрамления. Таким образом, исследование рецепции наследия А.В. Михайлова в советской и постсоветской гуманитаристике (и, в особенности, применительно к барокко) — актуальный вопрос для будущего исследования, рассмотрение которого способно осветить насущные проблемы состояния гуманитарного знания и научного сообщества.
Примечания
1.
Михайлов А.В. Несколько тезисов о теории литературы // Михайлов А.В. Избранное. Историческая поэтика и герменевтика.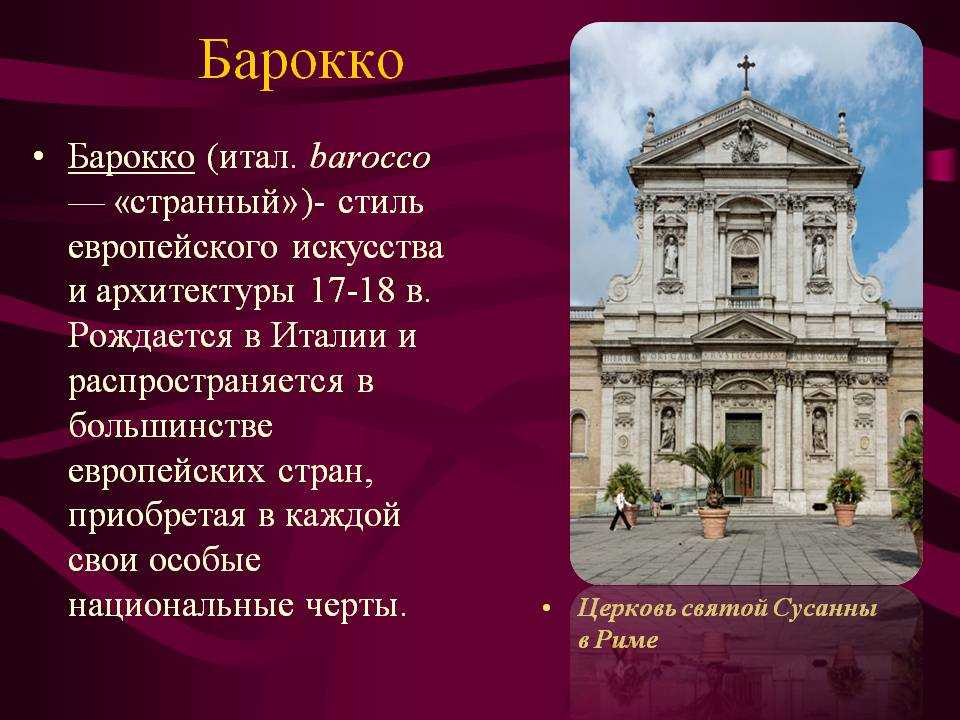 СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 2006. С. 499.
СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 2006. С. 499.2. Там же. С. 498.
3.
Дильтей В. Литературные архивы и их значение для изучения истории философии / Пер. с нем. Н.С. Плотникова // Вопросы философии. 1995. № 5. С. 124.4.
Хайдеггер М. Бытие и время / Пер. с нем. В.В. Бибихина. М.: Академический проект, 2015.5.
Михайлов А.В. Несколько тезисов о теории литературы. С. 480–481.6.
Михайлов А.В. Проблемы исторической поэтики в истории немецкой культуры // Михайлов А.В. Избранное. Историческая поэтика и герменевтика… С. 31.7.
Михайлов А.В. Надо учиться обратному переводу // Михайлов А.В. Обратный перевод. Русская и западноевропейская культуры: проблема взаимосвязей. М.: Языки русской культуры, 2000.8.
Махлин В.Л. «Замедление» как задача обратного перевода // Литературоведение как литература. Сборник в честь С.Г. Бочарова. М.: Языки славянской культуры; Прогресс-Традиция, 2004.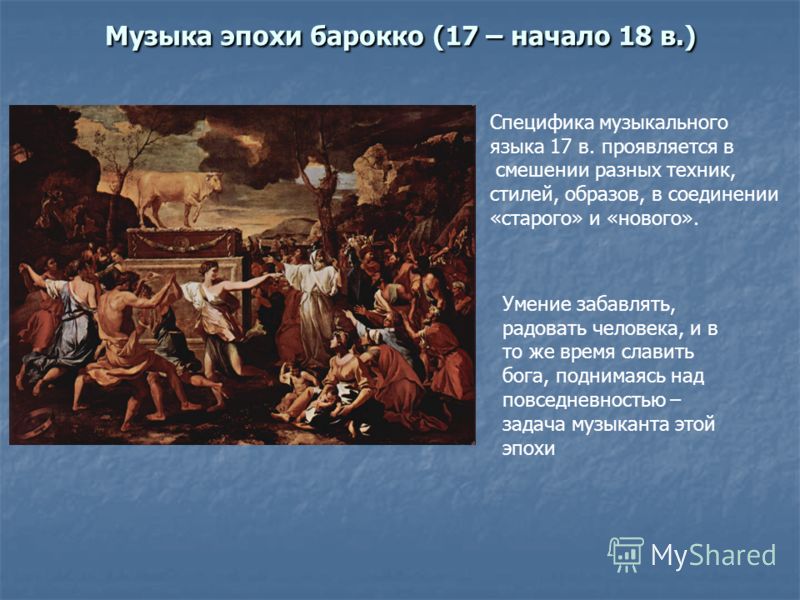
9.
Benjamin W. Über den Begriff der Geschichte // Gesammelte Werke. Bd. 1. Frankfurt a.M.: Zweitausendeins, 1991. S. 701.10.
Михайлов А.В. Несколько тезисов о теории литературы… С. 504.11.
Попова И.С. Историческая поэтика в теоретическом освещении. М.: ИМЛИ РАН, 2015. С. 45.12.
Визгин В.П. А.В. Михайлов: штрихи к философской характеристике // Философский журнал. 2010. № 2 (5). С. 36.13.
Михайлов А.В. Вильгельм Дильтей и его школа // Михайлов А.В. Избранное. Историческая поэтика и герменевтика… С. 228.14. Там же. С. 231.
15. Там же.
16. Там же. С. 231–232.
17. Историографический очерк Михайлова о концептуализации понятия «барокко» см.: Михайлов А.В. Поэтика барокко //
Михайлов А.В. Избранное. Завершение риторической эпохи. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 2007.18.
Михайлов А.В. Вильгельм Дильтей и его школа. С. 232.19. Там же.
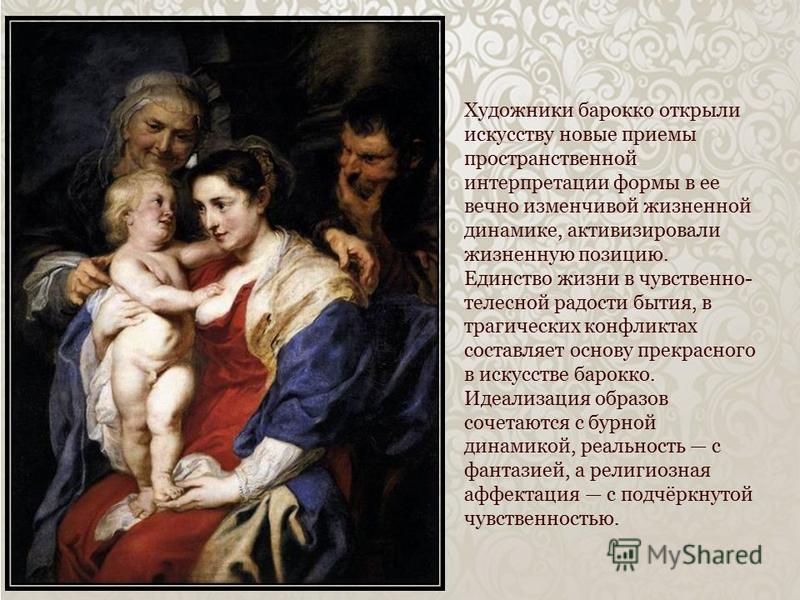 С. 233.
С. 233.20.
Гаспаров М.Л. Историческая поэтика и сравнительное стиховедение (проблема сравнительной метрики) // Историческая поэтика. Итоги и перспективы изучения. М.: Наука, 1986. С. 188–209.21.
Аверинцев С.С. Историческая подвижность категории жанра: опыт периодизации // Историческая поэтика: Итоги и перспективы изучения… С. 104–116.22.
Попова И.С. Указ. соч. С. 63.23.
Аверинцев С.С., Андреев М.Л., Гаспаров М.Л., Гринцер П.А., Михайлов А.В. Категории поэтики в смене литературных эпох // Историческая поэтика. Литературные эпохи и типы художественного сознания / Отв. ред. П.А. Гринцер. М.: Наследие, 1994. С. 4.24.
Михайлов А.В. Поэтика барокко: завершение риторической эпохи // Историческая поэтика. Литературные эпохи и типы художественного сознания… С. 326–391.25.
Михайлов А.В. Поэтика барокко… С. 126.26. «Все “личное” подвержено здесь той логике опосредования, которая позволяет легко перетекать в поэтическое произведение “автобиографическому” материалу, однако подает его, этот материал, как общее, отрывая его от самого носителя жизненного опыта».
 Там же. С. 145–146.
Там же. С. 145–146.27. Там же. С. 127.
28.
Harms W., Reinitzer H. Einleitung // Natura loquax: Naturkunde und allegorische Naturdeutung vom Mittelalter bis zur frühen Neuzeit. Frankfurt a. M., 1981. P. 12.29.
Михайлов А.В. Поэтика барокко: завершение риторической эпохи // Михайлов А.В. Языки культуры / Вступ. статья С.С. Аверинцева. М.: Языки русской культуры, 1997. С. 117.30. Там же. С. 140–141.
31.
Михайлов А.В. Методы и стили литературы. М.: ИМЛИ РАН, 2008. С. 17–18.32. Там же. С. 18.
33. Там же.
34.
Михайлов А.В. Поэтика барокко… С. 153.35.
Михайлов А.В. Методы и стили литературы… С. 20.36.
Гадамер Г.-Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики. М.: Прогресс, 1988. С. 65.37. Там же. С. 66.
38.
Михайлов А.В. Несколько тезисов о теории литературы… С. 482.39. Там же. С. 495.
40.
Papini M.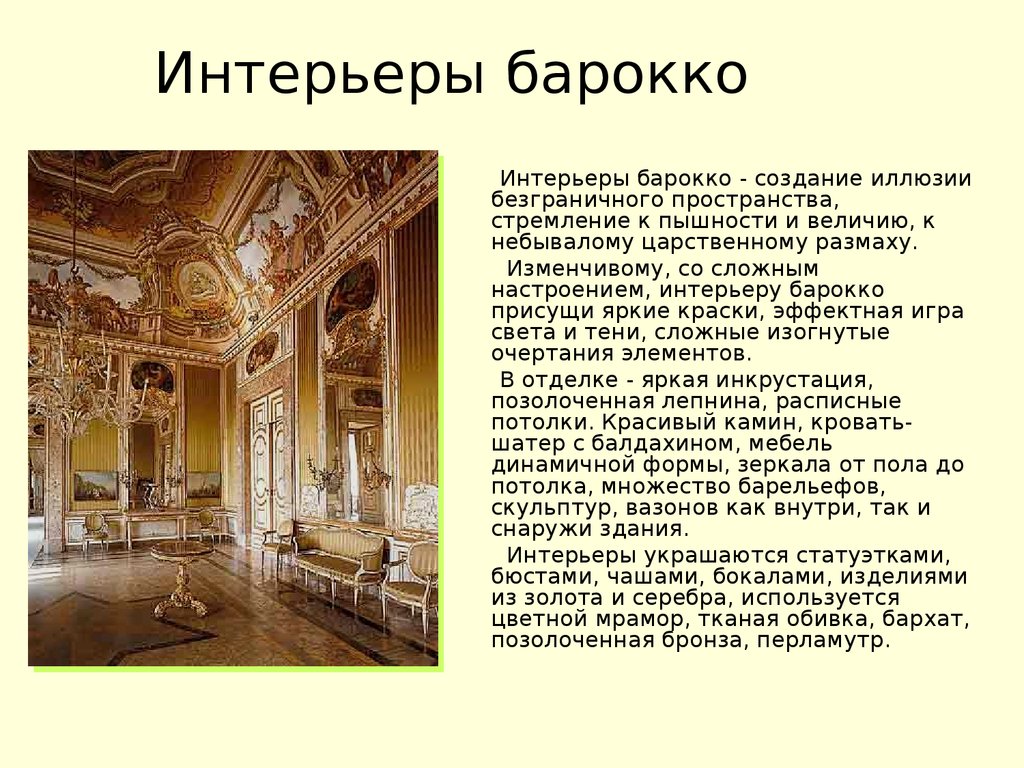 Vicenda seicentesca di minimi e conati // Bolletino del Centro di Studi Vichiani. 1992. № 22-23. P. 131–170.
Vicenda seicentesca di minimi e conati // Bolletino del Centro di Studi Vichiani. 1992. № 22-23. P. 131–170.41. Ibid. P. 136.
42. Ibid. P. 140–141.
43. Ярким примером такого подхода является историографический анализ трактовки проблемы осмысления барокко и классицизма и их взаимоотношений в работе:
Шпинарская Е.Н. Классицизм и барокко: историографический анализ. СПб.: ТОО ТК «Петрополис», 1998.44.
Беньямин В. Происхождение немецкой барочной драмы. М.: Аграф, 2002. С. 69.45.
Михайлов А.В. Немецкая драма XVII века // Михайлов А.В. Избранное. Завершение риторической эпохи. С. 51.46. Там же.
47.
Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс. М.: АСТ, 2002.48.
Михайлов А.В. Поэтика барокко… С. 145.49.
Михайлов А.В. Время и безвременье в поэзии немецкого барокко… С. 12–13.50.
Михайлов А.В. Проблемы исторической поэтики в истории немецкой культуры… С. 27.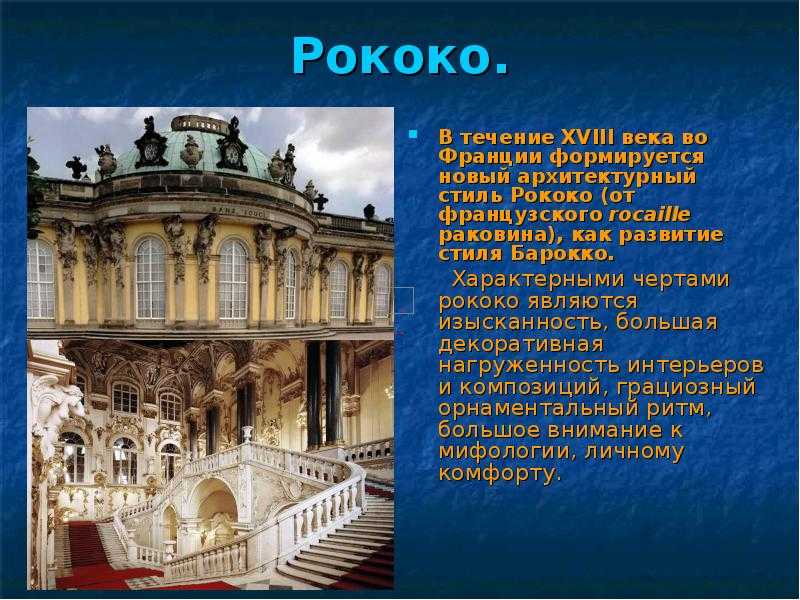
51. Там же. С. 27–28.
52. Там же. С. 430.
53.
Михайлов А.В. Мартин Хайдеггер: человек в мире // Михайлов А.В. Историческая поэтика и герменевтика… С. 432.Темы: гуманитарные науки, искусство, историография, культура, культурология, филология, философия
Виппер Ю. Б. Поэзия барокко и классицизма.
Текст предоставлен порталом Philology.ru и воспроизводится по изданию: Виппер Ю. Б. Творческие судьбы и история. (О западноевропейских литературах XVI — первой половины XIX века). — М., 1990. — С. 79-107.
Художественное богатство европейской поэзии XVII столетия нередко недооценивают. Причина тому — предрассудки, продолжающие иногда все еще определять восприятие литературного наследия этого бурного, противоречивого, сложного времени. Принципиальному будто бы «антилиризму» XVII столетия ищут объяснения и в господстве нивелирующей человеческую личность придворной культуры, и в гнете абсолютизма, и во влиянии на умы метафизического склада мышления, рационалистической прямолинейности и просто-напросто рассудочности, и в склонности превращать поэзию в изощренную, искусственную формалистическую игру — склонности, отождествляемой, как правило, со стилем барокко.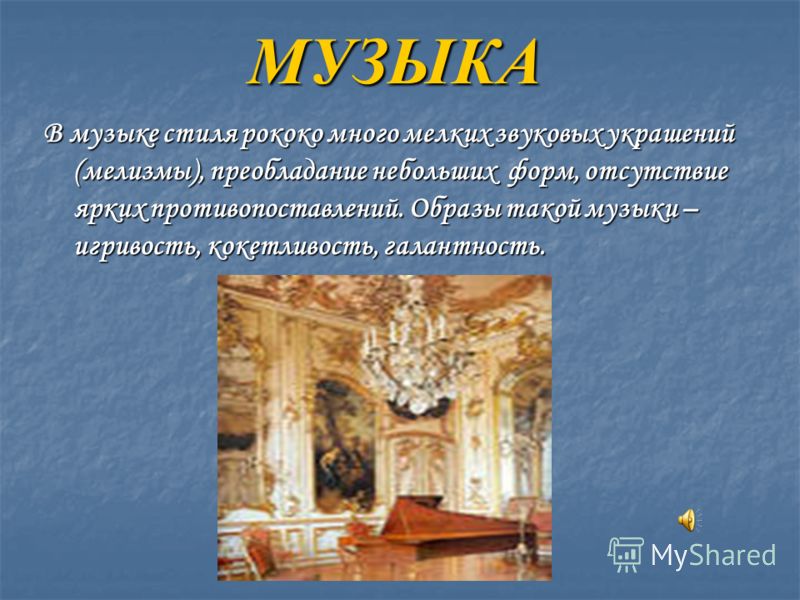 Однако попытки абсолютизма подчинить себе творческие силы нации отнюдь не определяют содержание духовной жизни европейского общества XVII столетия. Решающую роль здесь играют другие факторы. Не следует преувеличивать и значение метафизических и механистических представлений в культуре XVII века. Обостренный интерес к проблеме движения — одна из отличительных черт интеллектуальной жизни этой эпохи. Обостренный интерес к динамическим аспектам действительности, к преисполненному драматизма движению характеров, событий и обстоятельств, к осмыслению и воспроизведению противоречий, служащих источником этого неумолимо устремляющегося вперед жизненного потока, присущ и эстетическому мировосприятию эпохи, осо6енно его барочным формам.
Однако попытки абсолютизма подчинить себе творческие силы нации отнюдь не определяют содержание духовной жизни европейского общества XVII столетия. Решающую роль здесь играют другие факторы. Не следует преувеличивать и значение метафизических и механистических представлений в культуре XVII века. Обостренный интерес к проблеме движения — одна из отличительных черт интеллектуальной жизни этой эпохи. Обостренный интерес к динамическим аспектам действительности, к преисполненному драматизма движению характеров, событий и обстоятельств, к осмыслению и воспроизведению противоречий, служащих источником этого неумолимо устремляющегося вперед жизненного потока, присущ и эстетическому мировосприятию эпохи, осо6енно его барочным формам.
Чуждый предвзятости, объективный взгляд на литературу барокко как на искусство, не лишенное острых противоречий, но отнюдь не однолинейное, а, наоборот, чрезвычайно многообразное, способное порождать ослепительные, непреходящие художественные ценности, и является одной из основных предпосылок для плодотворного восприятия европейской поэзии XVII века. Облегчают возможность такого подхода многочисленные работы, которые посвящены советскими учеными в последнее время изучению проблемы барокко.
Облегчают возможность такого подхода многочисленные работы, которые посвящены советскими учеными в последнее время изучению проблемы барокко.
Семнадцатый век выдвинул таких выдающихся поэтов, как Гонгора, Кеведо, Донн и Мильтон, Марино, Малерб, Ренье, Теофиль де Вио, Лафонтен и Буало, Вондел, Флеминг и Грифиус, Потоцкий, Зриньи и Гундулич. Один уже перечень этих имен говорит о том, какое принципиально важное место занимает XVII век в истории европейской поэзии. Но это лишь перечень светил наивысшего ранга, да и то выборочный, неполный. Важно и другое: во всех странах Европы поэзия в XVII веке переживает бурный расцвет, находится на гребне литературной жизни, порождает поистине необозримое количество талантливых, незаурядных творческих личностей.
В художественной системе европейской поэзии XVII века немало черт, связанных с литературными традициями прошлого. К Возрождению восходят во многом и господствующая структура лирических и эпических жанров, и продолжающееся усиленное обращение к античной мифологии как к кладезю сюжетов и образов, и воздействие канонов петраркизма в любовной лирике, и влияние, какое оказывают на развертывание поэтической мысли законы риторики. Барочные писатели к тому же широко используют восходящие к средневековой культуре символы, эмблемы и аллегории, воплощают свои умонастроения с помощью традиционных библейских образов, вдохновляются зачастую идеалами, почерпнутыми из рыцарских романов. Вместе с тем художественное мироощущение, которым проникнута поэзия XVII века, в своей основе глубоко оригинально, самобытно, принципиально отлично от эстетических концепций и идеалов как эпохи Возрождения, так и века Просвещения.
Барочные писатели к тому же широко используют восходящие к средневековой культуре символы, эмблемы и аллегории, воплощают свои умонастроения с помощью традиционных библейских образов, вдохновляются зачастую идеалами, почерпнутыми из рыцарских романов. Вместе с тем художественное мироощущение, которым проникнута поэзия XVII века, в своей основе глубоко оригинально, самобытно, принципиально отлично от эстетических концепций и идеалов как эпохи Возрождения, так и века Просвещения.
Речь здесь идет не только о весьма высоком и широко распространенном уровне технического мастерства (причину этого следует искать и в закономерностях становления национальных литературных языков; и в обостренно-утонченном стилевом чутье, присущем эпохе; и в месте, которое поэзия занимала в существовании просвещенных кругов того времени, составляя основной предмет занятий многочисленнейших салонов, объединений и академий и служа одним из главных средств украшения придворного быта). Определяющим же является другое: крупнейшие достижения европейской поэзии XVII века запечатлели в совершенной художественной форме духовные искания, страдания, радости и мечты людей этой эпохи, жестокие конфликты очевидцами и участниками которых они были.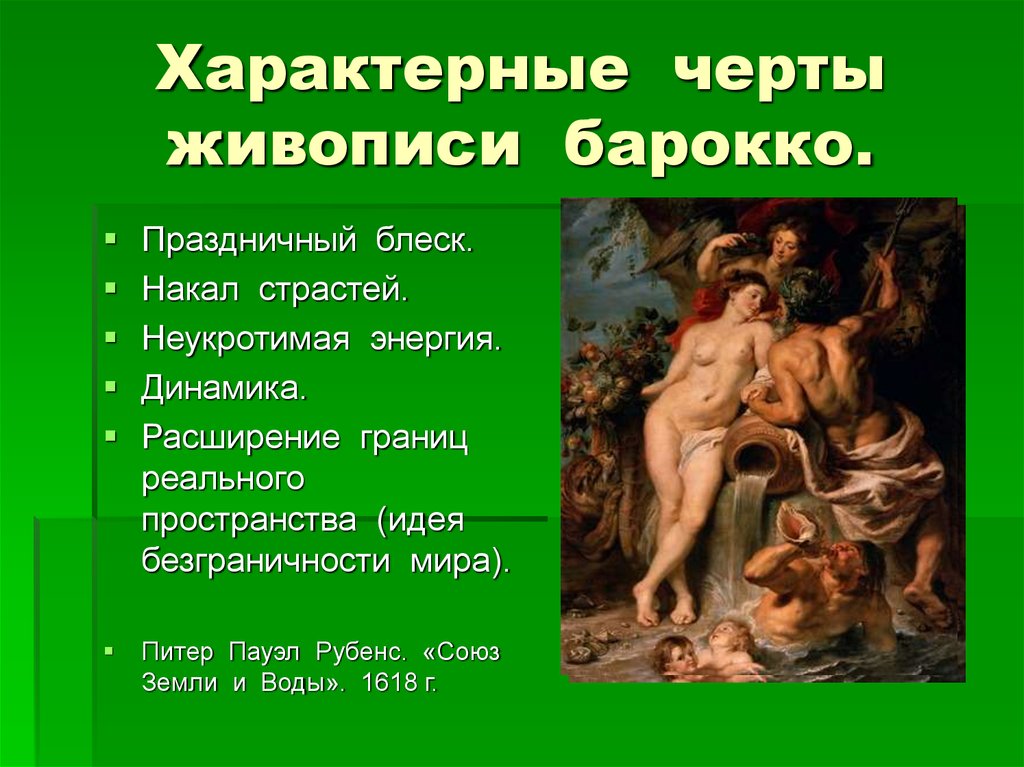 Постичь своеобразие европейской поэзии XVII столетия, истоки ее жизненности (в том числе и тех ее аспектов, которые кажутся особенно близкими людям XX века) нельзя, не восстановив хотя бы в самых общих чертах сущность тех исторических условий, в которых суждено было творить ее выдающимся представителям, и той культурной атмосферы, которая их окружала и созданию которой они сами способствовали.
Постичь своеобразие европейской поэзии XVII столетия, истоки ее жизненности (в том числе и тех ее аспектов, которые кажутся особенно близкими людям XX века) нельзя, не восстановив хотя бы в самых общих чертах сущность тех исторических условий, в которых суждено было творить ее выдающимся представителям, и той культурной атмосферы, которая их окружала и созданию которой они сами способствовали.
«Семнадцатый век» как эпоха играет во многом узловую, критическую роль в развитии того процесса борьбы между силами, защищающими феодальные устои, и силами, расшатывающими эти устои, начальная стадия которого относится к эпохе Возрождения, а завершающая охватывает эпоху Просвещения. Эту роль можно назвать узловой потому, что именно в ожесточенных общественных схватках, происходящих в XVII столетии (будь то английская революция, Фронда или Тридцатилетняя война), во многом определяются темпы и характер дальнейшего развития, а в какой-то мере и будущего разрешения этого конфликта в отдельных странах Европы.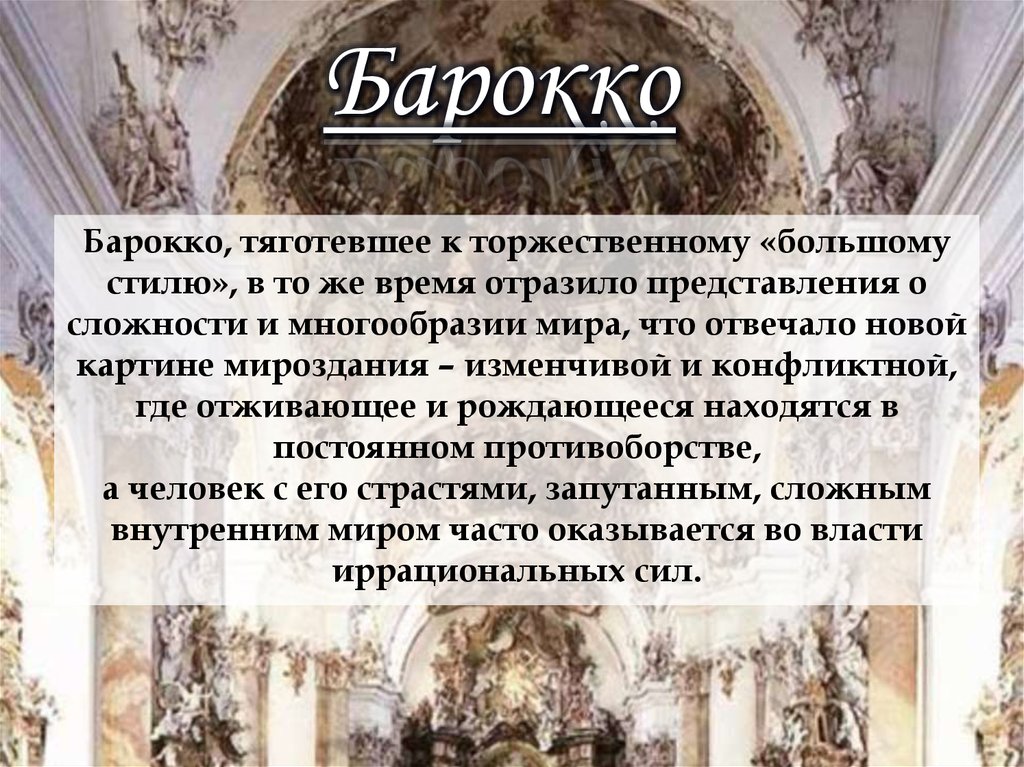
Повышенный драматизм XVII столетию как эпохе придает и то обстоятельство, что общественные столкновения разыгрываются в этот исторический период в условиях резкой активизации консервативных и реакционных кругов: они мобилизуют все свои ресурсы и используют все возможности с целью повернуть историю вспять или хотя бы приостановить ее поступательное движение. Усилия консервативных кругов принимают весьма различные формы. Это прежде всего такое широкое и многоликое общеевропейского характера явление, как Контрреформация. Если во второй половине XVI столетия идеал, утверждаемый деятелями Контрреформации, носит по преимуществу сурово аскетический характер, то с начала XVII века поборники этого движения (и в первую очередь иезуиты) прибегают ко все более разносторонним и гибким методам воздействия, охотно используя ради распространения своих идей и расширения сферы своего влияния пропагандистские и выразительные возможности стиля барокко, со свойственной ему пышностью, эмфазой и патетикой, тягой к чувственности. Одно из центральных событий в Западной Европе XVII столетия — это Тридцатилетняя война. И эта кровавая бойня, в которую оказались втянутыми европейские страны, была прежде всего следствием пагубных поползновений со стороны реакционных сил, их стремления к господству любой ценой.
Одно из центральных событий в Западной Европе XVII столетия — это Тридцатилетняя война. И эта кровавая бойня, в которую оказались втянутыми европейские страны, была прежде всего следствием пагубных поползновений со стороны реакционных сил, их стремления к господству любой ценой.
Возросшая сложность условий, в которых в XVII столетии развертывается общественная и идеологическая борьба наглядно отражается в художественной литературе эпохи. В литературе XVII века по сравнению с Возрождением утверждается более сложное и вместе с тем более драматическое по своей сути представление о взаимосвязи человека и окружающей его действительности. Литература XVII столетия отражает неуклонно возрастающий интерес к проблеме социальной обусловленности человеческой судьбы, взаимодействия во внутреннем мире человека личного и общественного начал, зависимости человека не только от своей натуры и прихотей фортуны, но от объективных закономерностей бытия и в том числе от закономерностей развития, движения общественной жизни. Литература XVII столетия, как и ренессансная литература, исходит из представления об автономной, свободной от средневековых ограничений человеческой личности и ее правах и возможностях как основном мериле гуманистических ценностей. Она рассматривает, однако, эту личность в более глубокой и одновременно более широкой с точки зрения охвата действительности перспективе, как некую точку преломления находящихся вне ее самой, но воздействующих на нее сил.
Литература XVII столетия, как и ренессансная литература, исходит из представления об автономной, свободной от средневековых ограничений человеческой личности и ее правах и возможностях как основном мериле гуманистических ценностей. Она рассматривает, однако, эту личность в более глубокой и одновременно более широкой с точки зрения охвата действительности перспективе, как некую точку преломления находящихся вне ее самой, но воздействующих на нее сил.
Замечательные ренессансные писатели Боккаччо и Ариосто, Рабле и Ронсар, Спенсер и Шекспир (в начале его творческого пути) в своих произведениях прежде всего с большой художественной силой раскрывали безграничные возможности, заложенные в человеческой натуре. Но их мечтам и идеалам был присущ утопический оттенок. В огне таких катаклизмов, как религиозная война во Франций 60-90-х годов XVI века, как революции в Нидерландах и Англии или Тридцатилетняя война, в соприкосновении с такими общественными явлениями, как Контрреформация и процесс первоначального накопления, особенно очевидно выявлялись призрачные, иллюзорные стороны идеала.
В литературе XVII столетия, эпохи, когда писали Кеведо и Гевара, Мольер и Лафонтен, Ларошфуко и Лабрюйер, Батлер и Уичерли, Мошерош и Гриммельсгаузен. на первый выдвигается изображение и осмысление изъянов и язв окружающей действительности; нарастают в литературе критические и сатирические тенденции. В поэзии в этой связи к уже упомянутым Кеведо, Батлеру и Лафонтену следует добавить как примеры имена Тассони и Сальватора Розы, Ренье, Скаррона, Сирано де Бержерака и Буало, Логау, Чепко, Опалиньского и Потоцкого. При этом необходимо отметить, что общественно-критические мотивы широко представлены и в наследии тех выдающихся поэтов XVII века, которые по природе своего творчества отнюдь не являются сатириками. Выразительным свидетельством тому служит, скажем, поэзия Гонгоры.
Для личности эпохи Ренессанса было характерно единство, слияние начала личного и общественного, обусловленное вместе с тем их нерасчлененностью. Для внутреннего мира человека, изображаемого литературой XVII столетия, показательно, наоборот, не только расчленение, обособление этих начал, но и их столкновение, борьба, зачастую прямой антагонизм.
Коллизии исторического процесса XVII столетия служили вместе с тем источником примечательных художественных открытий. Новое здесь заключалось прежде всего в остротрагическом и патетическом звучании, которое приобретало отображение этих коллизий, и прежде всего глубокого разочарования, вызванного кризисом ренессансных идеалов. Достаточно вспомнить в этой связи поэзию Донна, Гонгоры, Флеминга, Грифиуса или Теофиля де Вио. При этом важнейшую роль и в литературе классицизма, и в поэзии барокко играет изображение силы человеческого духа, способности человека преодолевать самого себя, находя во внутреннем мире оплот, позволяющий сохранять стойкость в самых страшных жизненных испытаниях.
Ярко выраженный драматизм жизненного восприятия и обостренное внимание к трагическим мотивам характерны в эту эпоху и для других видов искусства: например, музыки (не случайно именно в XVII столетии возникает и получает развитие такой музыкально-драматический жанр, призванный сыграть очень важную роль в художественной культуре Нового времени, как опера).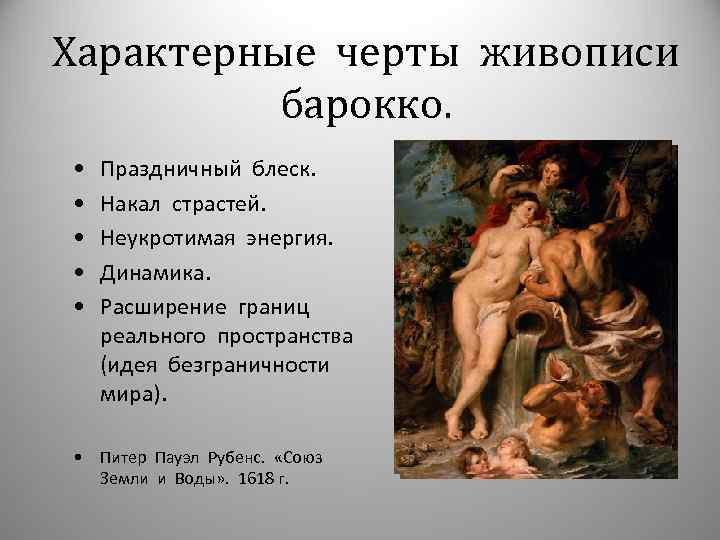 В живописи воплощение трагических сторон бытия своей кульминации достигает у Рембрандта.
В живописи воплощение трагических сторон бытия своей кульминации достигает у Рембрандта.
В западноевропейской литературе начала XVII столетия существуют явления, принадлежащие по своей природе позднему Возрождению (попытки Опица опереться на заветы Плеяды; «ученый гуманизм» и поэзия Арребо в Дании; нидерландская разновидность маньеризма, представленная Хофтом и Хёйгенсом; маньеристические тенденции в испанской поэзии времен Гонгоры). В конце века в целом ряде литератур Запада обозначаются приметы зарождающегося просветительского реализма или появляются предвестия стиля рококо (поэзия Шолье и Ла Фара во Франции, творчество «Аркадии» в Италии). Однако художественные стили, преобладающие в западноевропейской литературе XVII столетия, — барокко и классицизм.
Семнадцатый век — высший этап в развитии поэзии европейского барокко. Барокко особенно ярко расцвело в XVII столетии в литературе и искусстве тех стран, где феодальные круги в итоге напряженных социально-политических конфликтов временно восторжествовали, затормозив на длительный срок развитие капиталистических отношений, то есть в Италии, Испании, Германии. В литературе барокко отражается стремление придворной среды, толпящейся вокруг престола абсолютных монархов, окружить себя блеском и славой, воспеть свое величие и мощь. Очень значителен и вклад, который внесли в барокко иезуиты, деятели Контрреформации, с одной стороны, и представители протестантской церкви — с другой (наряду с католическим в западноевропейской литературе XVII века богато представлено и протестантское барокко). Этапы расцвета барокко в литературах Запада, как правило, совпадают с отрезками времени, когда активизируются церковные силы и нарастает волна религиозных настроений (религиозные войны во Франции, кризис гуманизма, обусловленный обострением общественных противоречий в Испании и Англии первой четверти XVII века, распространение мистических тенденций в Германии времен Тридцатилетней войны), или же с периодами подъема, переживаемого дворянскими кругами.
В литературе барокко отражается стремление придворной среды, толпящейся вокруг престола абсолютных монархов, окружить себя блеском и славой, воспеть свое величие и мощь. Очень значителен и вклад, который внесли в барокко иезуиты, деятели Контрреформации, с одной стороны, и представители протестантской церкви — с другой (наряду с католическим в западноевропейской литературе XVII века богато представлено и протестантское барокко). Этапы расцвета барокко в литературах Запада, как правило, совпадают с отрезками времени, когда активизируются церковные силы и нарастает волна религиозных настроений (религиозные войны во Франции, кризис гуманизма, обусловленный обострением общественных противоречий в Испании и Англии первой четверти XVII века, распространение мистических тенденций в Германии времен Тридцатилетней войны), или же с периодами подъема, переживаемого дворянскими кругами.
Принимая все это во внимание, необходимо учитывать и то, что возникновение барокко было обусловлено объективными причинами, коренившимися в закономерностях общественной жизни Европы во второй половине XVI и в XVII веке.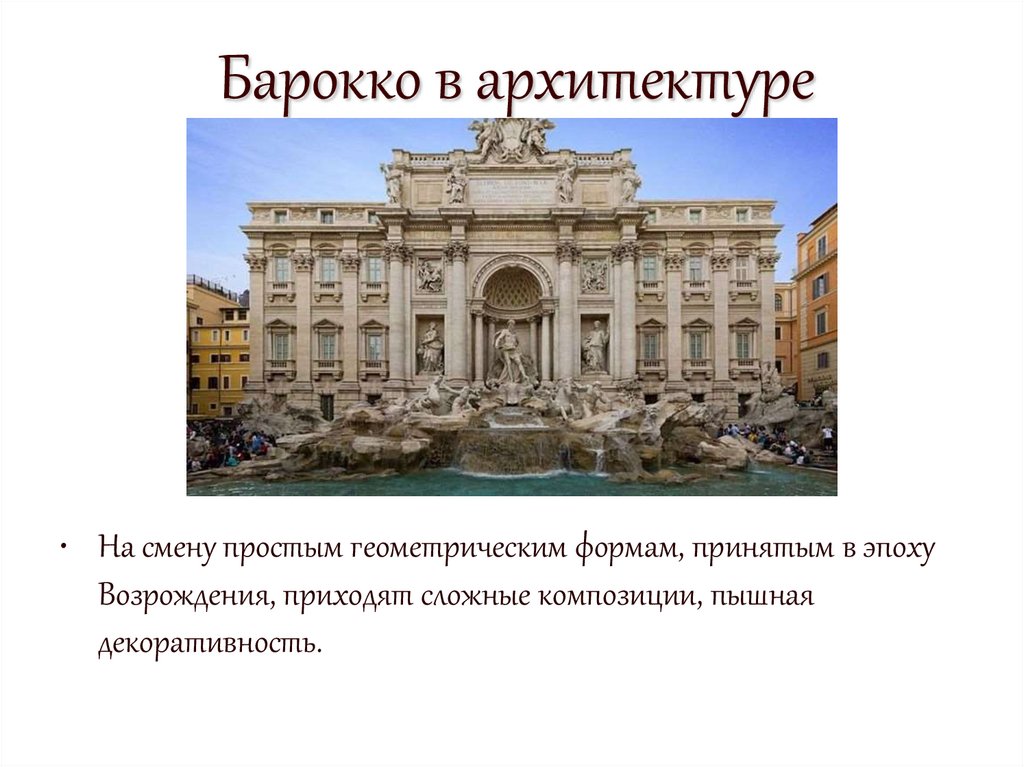 Барокко было прежде всего порождением тех глубоких социально-политических кризисов, которые сотрясали в это время Европу и которые особенный размах приобрели в XVII столетии. Церковь и аристократия пытались использовать в своих интересах настроения, возникавшие как следствие этих сдвигов, катастроф и потрясений. Однако это была лишь одна из тенденций, характеризующих в своей совокупности мироощущение барокко.
Барокко было прежде всего порождением тех глубоких социально-политических кризисов, которые сотрясали в это время Европу и которые особенный размах приобрели в XVII столетии. Церковь и аристократия пытались использовать в своих интересах настроения, возникавшие как следствие этих сдвигов, катастроф и потрясений. Однако это была лишь одна из тенденций, характеризующих в своей совокупности мироощущение барокко.
Поэзия барокко выражает не только нарастание иррационалистических умонастроений, не только ощущение растерянности, смятения, а временами и отчаяния, которые бщественные катаклизмы конца XVI и XVII столетия и связанный с этими катаклизмами усиливающийся кризис ренессансных идеалов вызывают у многих представителей гуманистической интеллигенции (религиозная лирика барокко во Франции, творчество «поэтов-метафизиков» в Англии, мистическая поэзия в Германии и т. д.), не только стремление феодально-аристократических кругов убедить читателя в своем превосходстве и великолепии (прециоз-ная поэзия и галантно-героический роман).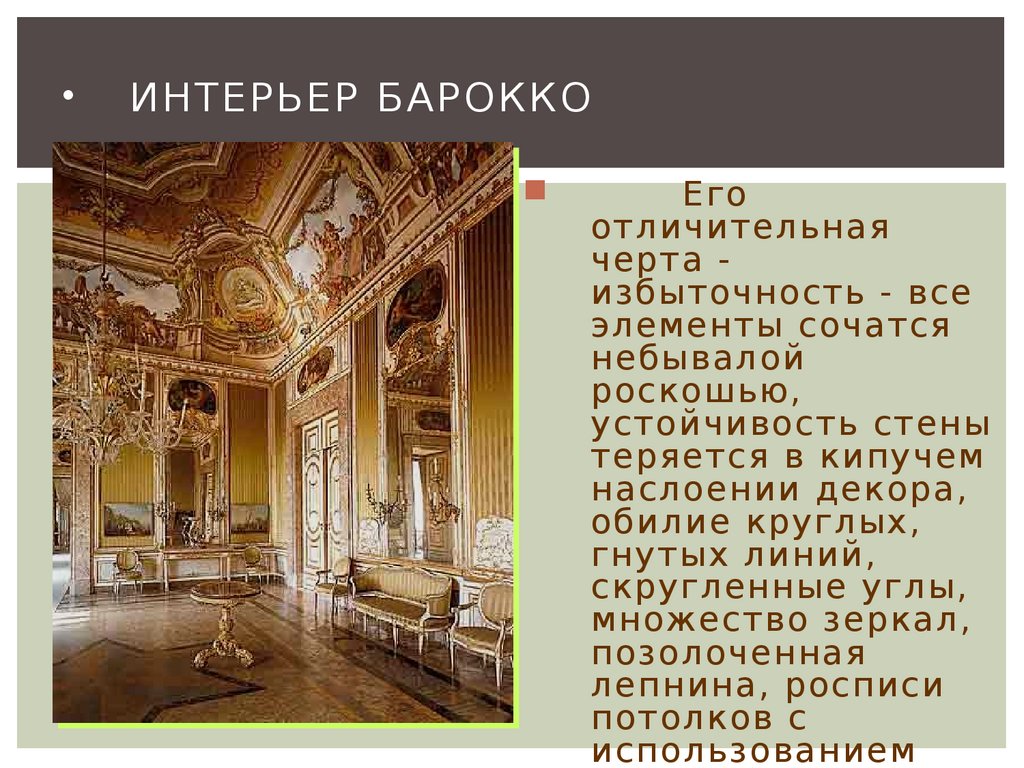 Значение крупнейших произведении поэзии барокко прежде всего в том, что в них проникновенно и правдиво запечатлен сам этот кризис и его многообразные, зачастую преисполненные трагизма отзвуки в человеческой душе. В них воплощено и стремление отстоять человеческое достоинство от натиска враждебных сил, и попытки творчески переосмыслить итоги разразившегося кризиса, извлечь из него созидательные выводы, обогатить в свете его исторических уроков гуманистические представления о человеке и действительности, так или иначе отразить настроения и чаяния передовых общественных кругов.
Значение крупнейших произведении поэзии барокко прежде всего в том, что в них проникновенно и правдиво запечатлен сам этот кризис и его многообразные, зачастую преисполненные трагизма отзвуки в человеческой душе. В них воплощено и стремление отстоять человеческое достоинство от натиска враждебных сил, и попытки творчески переосмыслить итоги разразившегося кризиса, извлечь из него созидательные выводы, обогатить в свете его исторических уроков гуманистические представления о человеке и действительности, так или иначе отразить настроения и чаяния передовых общественных кругов.
Самый наглядный пример тому — поэма Мильтона «Потерянный Рай». Поэт Мильтон объективно пошел заметно дальше Мильтона — идеолога пуританства. Поэтическая философия истории, воплощенная в образах «Потерянного Рая», с ее гениальными озарениями и стихийной диалектикой, отразила не столько непримиримый, аскетический дух пуританства, сколько всемирно-исторический и общечеловеческий размах, а тем самым и народные истоки того общественного перелома, который произошел в Англии середины XVII столетия.
С другой стороны, поэты вроде Марино или Теофиля Де Вио, близкие в той или иной степени аристократической среде, выходили в своем творчестве за узкие рамки дворянского гедонизма, развивая далеко идущие материалистические тенденции. В их произведениях звучат отголоски передовых научных открытий своего времени, находят отражение пантеистические мотивы.
Для поэзии барокко характерно, с одной стороны, обостренное ощущение противоречивости мира, а с другой стороны, стремление воспроизводить жизненные явления в их динамике, текучести, переходах (это относится не только к восприятию природы и изображению внутреннего мира человека, но у многих выдающихся творческих личностей и к воссозданию процессов общественной жизни). Барочные поэты охотно обращаются к теме непостоянства счастья, шаткости жизненных ценностей, всесилия рока и случая. Бьющий ключом оптимизм людей Ренессанса, выдвинутый ими идеал гармонически развитой личности часто сменяется у поэтов барокко мрачной оценкой действительности, а восторженное преклонение перед человеком и его возможностями — подчеркиванием его двойственности, непоследовательности, испорченности; обнажением вопиющего несоответствия между видимостью вещей и их сущностью — изображением разорванности бытия, столкновения между началом телесным и духовным, между привязанностью к чувственной красоте мира и осознанием бренности земного существования. При этом антитетичность, характерная для барочного мировосприятия, дает о себе знать и тогда, когда тот или иной писатель непосредственно в своем творчестве воспроизводит только одно из противостоящих друг другу начал, будь то, скажем, героические миражи прециозной литературы или натуралистическая изнанка действительности, возникающая нередко в сатирической поэзии барокко. Одна противоположность как бы подразумевает другую.
При этом антитетичность, характерная для барочного мировосприятия, дает о себе знать и тогда, когда тот или иной писатель непосредственно в своем творчестве воспроизводит только одно из противостоящих друг другу начал, будь то, скажем, героические миражи прециозной литературы или натуралистическая изнанка действительности, возникающая нередко в сатирической поэзии барокко. Одна противоположность как бы подразумевает другую.
Литературу барокко отличает, как правило, повышенная экспрессивность и тяготеющая к патетике эмоциональность (в аристократических вариантах барокко они принимают нередко характер напыщенности и аффектации, за которыми скрывается, по существу, отсутствие подлинного чувства, суховатый и умозрительный расчет).
Вместе с тем аналогичные тематические, образные и стилистические мотивы обретают у отдельных представителей литературы барокко несходное, а временами и прямо противоположное идейное звучание.
В литературе барокко обозначаются различные течения. Их связывают общие черты; между ними существует определенное единство, но и серьезные принципиального порядка расхождения. У этого обстоятельства, как уже отмечалось, есть свои показательные для XVII столетия общественные истоки.
У этого обстоятельства, как уже отмечалось, есть свои показательные для XVII столетия общественные истоки.
Необходимо, наконец, иметь в виду и национальное своеобразие тех конкретных форм, которые присущи поэзии барокко в отдельных странах Европы. Это своеобразие наиболее отчетливо кристаллизуется в творчестве самых примечательных художественных индивидуальностей, выдвинутых в XVII веке литературой той или иной страны.
Итальянской поэзии барокко в целом чужды иррационалистические и мистические мотивы. В ней доминируют гедонистические устремления, увлечение виртуозными формальными экспериментами и изысканное риторичеческое мастерство. В ней много блеска, но блеск этот часто внешний. У этих противоречий есть свои объективные причины. Италия XVII века, страна раздробленная, страдающая от иноземного гнета, натиска феодальной реакции и Контрреформации, переживала период общественного застоя. Вместе с тем художественная культура Италии, по крайней мере в первой половине столетия, полна жизненных сил, внутренней энергии, накопленной еще в эпоху Возрождения.
В этой связи становится особенно очевидной типичность фигуры кавалера Марино — поэта, признанного первым писателем Италии, пользовавшегося в XVII веке всеевропейской славой, породившего огромное количество последователей и подражателей не только на родине, но и повсюду, где существовала литература барокко, — и его мнимого антагониста Кьябреры. Марино расширил тематические рамки поэзии. Он сделал ее способной изображать все, что в природе доступно чувственному восприятию человека и тем самым поэтическому описанию. Внес он новые краски и в любовную лирику. Образ возлюбленной у Марино конкретнее и полнокровнее, чем у петраркистов XVI века, поглощенных монотонным и условным обожествлением женщины. И все же поэзия Марино, при всей его языческой упоенности телесной красотой, не отличается глубиной. Марино прежде всего виртуоз, непревзойденный мастер словесных эффектов (в первую очередь в сфере образов — метафор и антитез), чародей, создающий блистательный, но иллюзорный, эфемерный мир, в котором выдумка, остроумие, изощреннейшая поэтическая техника торжествуют над правдой реальной действительности. Как и зодчие барокко, Марино, стремясь к монументальности, одновременно разрушает ее изобилием и нагромождением орнаментации. Таково его главное произведение — поэма «Адонис». В ней сорок тысяч стихов, но вся она соткана из множества вставных эпизодов, лирических отступлений, утонченных стихотворных миниатюр.
Как и зодчие барокко, Марино, стремясь к монументальности, одновременно разрушает ее изобилием и нагромождением орнаментации. Таково его главное произведение — поэма «Адонис». В ней сорок тысяч стихов, но вся она соткана из множества вставных эпизодов, лирических отступлений, утонченных стихотворных миниатюр.
Часто развитие итальянской поэзии XVII столетия представляют в виде единоборства двух линий: одной, восходящей к Марино, и другой, у истоков которой — Кьябрера. Но на самом деле у этой антитезы лишь весьма относительный смысл. Кьябрера не так уж далек от Марино. Его творчество не классицизм, принципиально противостоящий барокко, а скорее классицистическая ветвь внутри общего барочного направления. Анакреонтические мотивы, которые восходят к Ронсару, и жалобы по поводу упадка, переживаемого родиной, не перерастают у Кьябреры рамки поэтических «общих мест». Истинная же его оригинальность — в музыкальности, в неистощимой ритмической и мелодической изобретательности, ведущей к созданию и внедрению в итальянскую поэзию новых типов строф.
Были, конечно, в Италии XVII века и барочные поэты другого склада. Это прежде всего суровое, аскетическое творчество замечательного мыслителя Кампанеллы, автора социально-утопического романа «Город Солнца». В своих стихах, вдохновленных возвышенным примером Данте, он утверждал величие мыслящего человека, его неукротимое стремление к независимости и справедливости. Заслуживает внимания творчество итальянских сатириков XVII века. Блестящий остроумный представитель пародийной бурлескной поэзии — Алессандро Тассони, автор ироикомической поэмы «Похищенное ведро». Сальватор Роза более решителен и беспощаден в отрицании господствующего уклада, но и более тяжеловесен и неуклюж (черты, свойственные и Розе-живописцу) в художественном воплощении этого отрицания.
В поэзии испанского барокко поражает ее контрастность, и в этой контрастности находит свое воплощение неотступное ощущение поэтами противоестественной дисгармоничности окружающего бытия. Контраст предопределяет само развитие поэзии в Испании XVII столетия; оно основано на столкновении двух различных течений внутри испанского барокко: культизма (или культеранизма) и консептизма.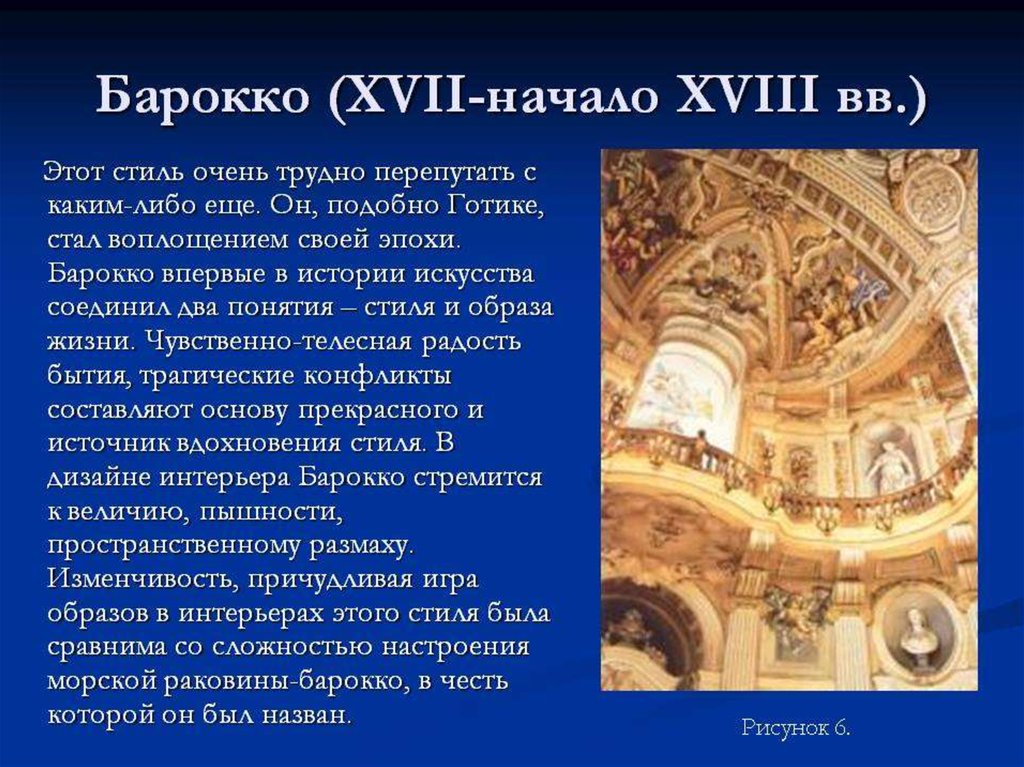 Квинтэссенция и вершина первого — поэзия Гонгоры. Наиболее яркое выражение второго — творчество Кеведо. В основе культизма лежит противопоставление искусства как некоей «башни из слоновой кости», символа красоты и гармонии, уродству и хаосу, царящим в реальной действительности. Но возвышенное царство искусства доступно лишь немногим избранным, интеллектуальной элите. «Темный» стиль Гонгоры чрезвычайно усложнен — и прежде всего из-за всесилия загадочной метафористичности, нагнетения латинизмов, изобилия синтаксических инверсий, эллиптичности оборотов. «Темный» стиль Гонгоры сформировался не сразу. Ранние оды и сонеты поэта отличаются широтой тематики, доступностью слога. Его же летрильи и романсы родственно связаны с фольклорной традицией. Своей законченности «темный» стиль Гонгоры достигает в «Сказании о Полифеме и Галатее» и в поэме «Уединения». Мир творимый изощреннейшим, волшебным художественым мастерством, здесь, как и у Марино, служит убежищем от нищеты реальной прозы жизни. Однако, в отличие от итальянского поэта, Гонгора с горечью осознает иллюзорность попыток ухода от яви.
Квинтэссенция и вершина первого — поэзия Гонгоры. Наиболее яркое выражение второго — творчество Кеведо. В основе культизма лежит противопоставление искусства как некоей «башни из слоновой кости», символа красоты и гармонии, уродству и хаосу, царящим в реальной действительности. Но возвышенное царство искусства доступно лишь немногим избранным, интеллектуальной элите. «Темный» стиль Гонгоры чрезвычайно усложнен — и прежде всего из-за всесилия загадочной метафористичности, нагнетения латинизмов, изобилия синтаксических инверсий, эллиптичности оборотов. «Темный» стиль Гонгоры сформировался не сразу. Ранние оды и сонеты поэта отличаются широтой тематики, доступностью слога. Его же летрильи и романсы родственно связаны с фольклорной традицией. Своей законченности «темный» стиль Гонгоры достигает в «Сказании о Полифеме и Галатее» и в поэме «Уединения». Мир творимый изощреннейшим, волшебным художественым мастерством, здесь, как и у Марино, служит убежищем от нищеты реальной прозы жизни. Однако, в отличие от итальянского поэта, Гонгора с горечью осознает иллюзорность попыток ухода от яви.
В глазах консептистов стиль Гонгоры и его последователей был верхом искусственности. Однако их собственная творческая манера была также достаточно сложной. Консептисты стремились запечатлеть режущие глаз парадоксы современной жизни путем неожиданного и одновременно предельно лаконичного и отточенного по своей словесной форме сопряжения как будто далеко отстоящих друг от друга явлений. Консептизм, однако, значительно более непосредственно проникает в противоречия общественного бытия, чем культеранизм, и заключает в себе, несомненно, незаурядную разоблачительную и реалистическую потенцию. Последняя особенно выпукло выявилась в прозе Кеведо, сочетаясь там одновременно с глубоко пессимистической оценкой общественной перспективы. В поэтических сатирах Кеведо на первый план выступает комическое начало, нечто раблезианское в стихийной и неудержимой силе осмеяния. При этом чаще всего Кеведо прибегает к бурлеску, заставляя вульгарное торжествовать над возвышенным, выворачивая вещи наизнанку, демонстрируя блестящее остроумие в приемах внезапного преподнесения комического эффекта. Примечательна и любовная поэзия Кеведо. Поэту удается придать оттенок неподдельной рыцарственности стихам, в которых он разрабатывает традиционные мотивы петраркистской лирики, например заверяя даму в беззаветной преданности, несмотря на жестокие страдания, которые она ему причиняет. Обязательная эпиграмматическая острота в заключительных стихах любовных сонетов у Кеведо основана не на простой игре слов, как это обычно в петраркистской и прециозной лирике, а обозначает резкий, но знаменательный поворот мысли.
Примечательна и любовная поэзия Кеведо. Поэту удается придать оттенок неподдельной рыцарственности стихам, в которых он разрабатывает традиционные мотивы петраркистской лирики, например заверяя даму в беззаветной преданности, несмотря на жестокие страдания, которые она ему причиняет. Обязательная эпиграмматическая острота в заключительных стихах любовных сонетов у Кеведо основана не на простой игре слов, как это обычно в петраркистской и прециозной лирике, а обозначает резкий, но знаменательный поворот мысли.
Во французской поэзии барокко представлено особенно широко и многообразно вплоть до 1660 года, когда одновременно наступают этап решительного торжества абсолютизма над оппозиционными силами и период высшего расцвета классицизма. Бурная же, мятежная, преисполненная брожения первая половина века — благодатная пора для развития стиля барокко. Во французской поэзии обозначаются три основные его разновидности. Это прежде всего религиозная поэзия. Ласепэд, Фьефмелен, Годо и другие обращаются к темам, распространенным в литературе барокко (бренность и слабость человека, обреченность на страдания, скоротечность жизни и ее никчемность перед лицом вечности), но решают их однообразно, узко, следуя предписаниям ортодоксальной догмы, иллюстрируя Священное писание, прославляя творца и загробную жизнь.
Сходные же мотивы непостоянства, шаткости, тленности всего живого, но в сочетании с выражением жгучей привязанности к земному существованию, к плотским радостям, неуемной жажды наслаждений и в силу этого эмоционально богаче, драматичнее, рельефнее, разрабатывают поэты-вольнодумцы. Этот пестрый круг эпикурейски, материалистически настроенных поэтов включает в себя и фаворитов знатных меценатов, и неприкаянных детей зарождающейся богемы, и бесшабашных прожигателей жизни, кутил, и отчаянных искателей приключений. С легкой руки Теофиля Готье, литераторы этого круга получили наименование «гротесков». Французские историки литературы нередко называют их «романтиками времени Людовика XIII». И действительно, есть у этих очень неровных и вместе с тем еще недостаточно оцененных и, в частности, мало у нас известных поэтов художественные озарения, которые бросают свет куда-то далеко в будущее. Встречаются среди них сатирики, которые не только обладают даром разящего гротескового преувеличения, но и способностью создавать лирические шедевры.%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%BE.%20%D0%9E%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82.%201597.jpg) Таков, например, Мотен. В некоторых его стихах слышны какие-то художественно весьма смелые, почти «бодлеровские» ноты. А мелодика стихов Дюрана вызывает ассоциации с элегиями Мюссе. В его «Стансах Непостоянству» традиционные барочные мотивы преподнесены с подкупающей искренностью и непосредственностью. Оценить степень трагической и провидческой глубины этой искренности можно, лишь зная, что стихи эти были написаны пылким, страстно влюбленным 26-летним поэтом, который за участие в заговоре и за оскорбление его королевского величества был четвертован и сожжен на Гревской площади. Некоторые из «гротесков» (например, де Барро или одаренный огромным талантом забулдыга Вион Далибре) пережили истинно «барочную» эволюцию. В течение многих лет они вели себя как подлинные безбожники, сочиняли вакхические песни, озорные, изобилующие реалистическими и острыми зарисовками сатиры и эпиграммы, а на склоне лет, окидывая взором промелькнувшую как сон жизнь, стремились взволнованно передать нахлынувшие на них чувства смятения, раскаяния, разочарования и горечи.
Таков, например, Мотен. В некоторых его стихах слышны какие-то художественно весьма смелые, почти «бодлеровские» ноты. А мелодика стихов Дюрана вызывает ассоциации с элегиями Мюссе. В его «Стансах Непостоянству» традиционные барочные мотивы преподнесены с подкупающей искренностью и непосредственностью. Оценить степень трагической и провидческой глубины этой искренности можно, лишь зная, что стихи эти были написаны пылким, страстно влюбленным 26-летним поэтом, который за участие в заговоре и за оскорбление его королевского величества был четвертован и сожжен на Гревской площади. Некоторые из «гротесков» (например, де Барро или одаренный огромным талантом забулдыга Вион Далибре) пережили истинно «барочную» эволюцию. В течение многих лет они вели себя как подлинные безбожники, сочиняли вакхические песни, озорные, изобилующие реалистическими и острыми зарисовками сатиры и эпиграммы, а на склоне лет, окидывая взором промелькнувшую как сон жизнь, стремились взволнованно передать нахлынувшие на них чувства смятения, раскаяния, разочарования и горечи.
Самые же значительные из поэтов-вольнодумцев первой половины XVII века — это Теофиль де Вио и Антуан де Сент-Аман. Кульминация их творчества падает на 20-е годы XVII столетия. Теофиль де Вио — идейный вождь бунтарского либертинажа этих лет. В его лирике (он был и прозаиком и драматургом) своеобразно сочетаются черты восходящей к ренессансным традициям реалистичности и чисто барочной утонченной чувствительности и изощренности. В отличие от большинства своих современников, поэтов, замыкающихся в атмосфере салонов и дворцовых покоев, Теофиль тонко ощущает природу. Он великолепно передает ее чувственную прелесть, то наслаждение, которое у него вызывают переливы света, игра водных струй, свежесть воздуха, пряные ароматы цветов. Он сердечно привязан и к сельским пейзажам родных мест, где его брат продолжает трудиться, возделывая землю («Письмо брату»).
Любовные стихи Теофиля необычны для его времени. Им чужда аффектация и манерность. В них звучат отголоски истинной страсти, горячих порывов воспламененной и упоенной красотой чувственности, неподдельных страданий. В 20-х годах лирика Теофиля все более интеллектуализируется, наполняясь философским и публицистическим содержанием. В ней находит захватывающее по своей эмоциональной силе выражение личной драмы поэта. Он был брошен в тюрьму вождями католической реакции по обвинению в безнравственности и безбожии и сгноен там.
В 20-х годах лирика Теофиля все более интеллектуализируется, наполняясь философским и публицистическим содержанием. В ней находит захватывающее по своей эмоциональной силе выражение личной драмы поэта. Он был брошен в тюрьму вождями католической реакции по обвинению в безнравственности и безбожии и сгноен там.
Лучшие стихотворные произведения Сент-Амана овеяны опьяняющим духом внутренней независимости, упоения жизнью, свободы следовать прихотям своей фантазии, капризным скачкам и переливам чувств. Именно в 20-е годы Сент-Аман создает такие шедевры барочной лирики, как ода «Уединение» или вакхический гимн «Виноградная лоза», как бурлескная импровизация «Арбуз» или серия блестящих караваджистских сонетов, жанровых картинок, в отточенной стихотворной форме фиксирующих причудливые и живописные моменты повседневного существования нищей, но неунывающей, беспечной литературной богемы.
В 40-е годы, в канун и в годы политических сотрясений Фронды, вольнодумный вариант барокко дает буйные побеги прежде всего в виде бурлескной поэзии. Ее самые яркие представители — Скаррон и Сирано де Бержерак. Бурлескные поэмы Скаррона («Тифон, или Гигантомахия» и «Вергилий наизнанку»), имевшие шумный успех, отражали недовольство существующими порядками, возбуждали дух неуважения к господствующим авторитетам. В «высокой» литературе того времени герои античных мифов служили воспеванию дворянской государственности. Скаррон, прибегая к бурлескной перелицовке, издеваясь над претензиями венценосцев и их подобострастных историографов, изображал этих героев в качестве вульгарных и мелких обывателей, движимых ничтожными и эгоистичными побуждениями. Постепенно в бурлескном жанре — например, в стихотворных очерках, получивших название «Парижские неурядицы» (к ним принадлежит и поэма «Смешной Париж» Клода Ле Пти, писателя, также окончившего жизнь на костре), — возрастали черты бытовой достоверности. Этот тип бурлеска непосредственно перекидывает мост к ранним сатирам Буало.
Ее самые яркие представители — Скаррон и Сирано де Бержерак. Бурлескные поэмы Скаррона («Тифон, или Гигантомахия» и «Вергилий наизнанку»), имевшие шумный успех, отражали недовольство существующими порядками, возбуждали дух неуважения к господствующим авторитетам. В «высокой» литературе того времени герои античных мифов служили воспеванию дворянской государственности. Скаррон, прибегая к бурлескной перелицовке, издеваясь над претензиями венценосцев и их подобострастных историографов, изображал этих героев в качестве вульгарных и мелких обывателей, движимых ничтожными и эгоистичными побуждениями. Постепенно в бурлескном жанре — например, в стихотворных очерках, получивших название «Парижские неурядицы» (к ним принадлежит и поэма «Смешной Париж» Клода Ле Пти, писателя, также окончившего жизнь на костре), — возрастали черты бытовой достоверности. Этот тип бурлеска непосредственно перекидывает мост к ранним сатирам Буало.
Третья разновидность французского барокко — прециозная поэзия, культивировавшаяся завсегдатаями аристократических салонов. Когда-то эта поэзия пользовалась широким признанием, и одновременно к ней и сводилось представление о стиле барокко во французской литературе. Теперь она воспринимается из-за своей условности как наиболее обветшавшее ответвление этого стиля. Но и среди обильной продукции прециозных стихотворцев встречаются прелестные миниатюры. Таковы прежде всего произведения Венсана Вуатюра. Вуатюру в его стихах нередко удавалось освобождаться от ухищрений риторики, от избитых прециозных штампов, добиваться чарующей естественности и легкости слога. В его поэзии наряду с воздействием барочной вычурности отчетливо дают о себе знать классицистические тенденции. В ней слышны поэтические ноты, предвосхищающие «Сказки» Лафонтена, они в какой-то мере прокладывают путь эпикурейским стихам Шолье и Ла Фара, «легкой», анакреонтической поэзии эпохи рококо, творчеству Вольтера-лирика.
Когда-то эта поэзия пользовалась широким признанием, и одновременно к ней и сводилось представление о стиле барокко во французской литературе. Теперь она воспринимается из-за своей условности как наиболее обветшавшее ответвление этого стиля. Но и среди обильной продукции прециозных стихотворцев встречаются прелестные миниатюры. Таковы прежде всего произведения Венсана Вуатюра. Вуатюру в его стихах нередко удавалось освобождаться от ухищрений риторики, от избитых прециозных штампов, добиваться чарующей естественности и легкости слога. В его поэзии наряду с воздействием барочной вычурности отчетливо дают о себе знать классицистические тенденции. В ней слышны поэтические ноты, предвосхищающие «Сказки» Лафонтена, они в какой-то мере прокладывают путь эпикурейским стихам Шолье и Ла Фара, «легкой», анакреонтической поэзии эпохи рококо, творчеству Вольтера-лирика.
Французскую поэзию барокко в целом отличают изящество, реалистические наклонности, чувство меры в воплощении эмоций, тонкая музыкальность. К тому же для Франции, где в духовной жизни XVII века сильно развиты рационалистические тенденции, характерно тяготение барокко к сочетанию с классицизмом. Впрочем, это — явление, нередко встречающееся в художественной жизни Европы XVII столетия. Аналогичное переплетение барокко с классицизмом показательно и для голландской литературы (Хейнсий, Вондел). Яркие примеры тому находим мы и на английской почве: например, у Геррика, Мильтона, Драйдена.
К тому же для Франции, где в духовной жизни XVII века сильно развиты рационалистические тенденции, характерно тяготение барокко к сочетанию с классицизмом. Впрочем, это — явление, нередко встречающееся в художественной жизни Европы XVII столетия. Аналогичное переплетение барокко с классицизмом показательно и для голландской литературы (Хейнсий, Вондел). Яркие примеры тому находим мы и на английской почве: например, у Геррика, Мильтона, Драйдена.
Поэзия барокко проходит в Англии те же три этапа, что и английская литература в целом: период кризиса ренессансных идеалов, участия в гуще революционных схваток, художественного отображения и осмысления их итогов. На всех этих трех этапах английскую поэзию барокко отличают две ведущие черты — творческая мощь и окрашенное разными оттенками ощущение ломки существующих устоев. Но претворяются эти черты по-разному.
Центральная фигура первого периода, безусловно, Джон Донн. Донн прошел сложную и даже резкую эволюцию. Но он сразу же выступил как выразитель умонастроений, непривычных для ренессансных поэтических традиций, заговорил самобытным голосом.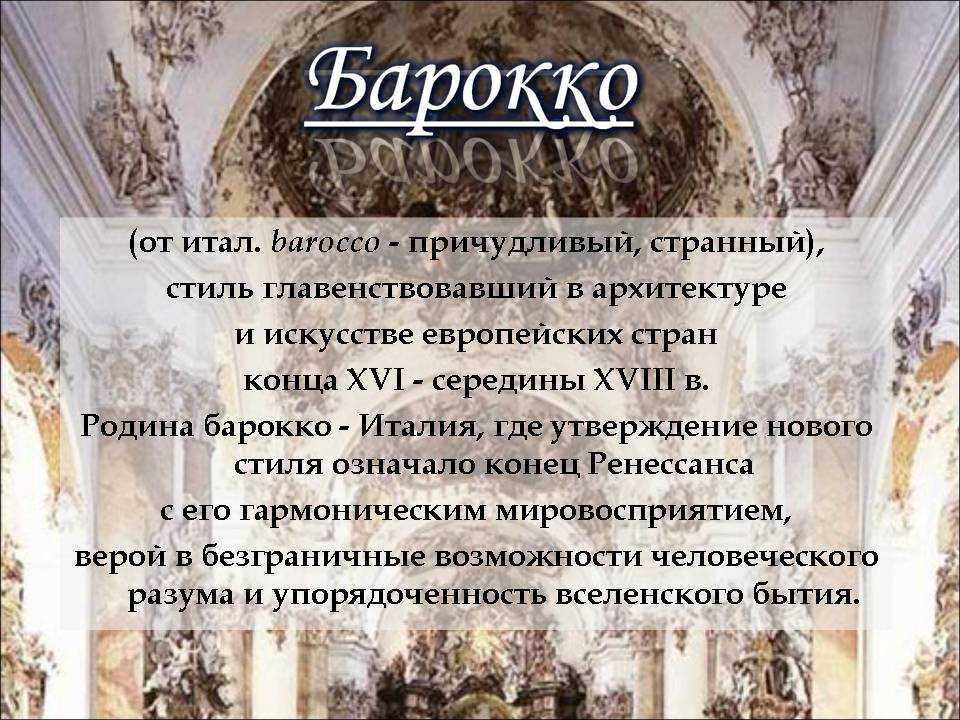 Донн не добивался мелодической певучести стиха. Поэт сам называет свой стих «грубым и диким». Но страшная, обжигающая внутренняя сила, с которой он выражал себя, сопутствовала ему на протяжении всего творческого пути. В более ранней поэзии Донна примечательна прежде всего склонность к острым контрастам, свобода, с которой совершаются переходы или, вернее, скачки из «высокого» в «низкий» план, от возвышенно-платонической к натуралистической трактовке любви, от экстазов и восторгов к проклятиям и едкой насмешке. Донна привлекали сложные чувства, преисполненные мучительных противоречий, их столкновение, переплетение, ожесточенная борьба. Художественные контрасты для Донна — отражение той парадоксальности, которая царит, согласно его убеждению, в жизни. Экзальтированность и всеразрушающий скепсис соседствуют в его сознании. Поэзия Донна порывает одновременно и с канонами петраркистской лирики, и с властью риторики над поэзией. Поэзия для Донна — единственное средство подойти к тому, что логически невыразимо, что относится к душевному состоянию и окутано покровом тайны.
Донн не добивался мелодической певучести стиха. Поэт сам называет свой стих «грубым и диким». Но страшная, обжигающая внутренняя сила, с которой он выражал себя, сопутствовала ему на протяжении всего творческого пути. В более ранней поэзии Донна примечательна прежде всего склонность к острым контрастам, свобода, с которой совершаются переходы или, вернее, скачки из «высокого» в «низкий» план, от возвышенно-платонической к натуралистической трактовке любви, от экстазов и восторгов к проклятиям и едкой насмешке. Донна привлекали сложные чувства, преисполненные мучительных противоречий, их столкновение, переплетение, ожесточенная борьба. Художественные контрасты для Донна — отражение той парадоксальности, которая царит, согласно его убеждению, в жизни. Экзальтированность и всеразрушающий скепсис соседствуют в его сознании. Поэзия Донна порывает одновременно и с канонами петраркистской лирики, и с властью риторики над поэзией. Поэзия для Донна — единственное средство подойти к тому, что логически невыразимо, что относится к душевному состоянию и окутано покровом тайны. Композиция стихов у него строится не на логическом развертывании поэтической мысли, а на смене настроений и порождаемых ими образных ассоциаций.
Композиция стихов у него строится не на логическом развертывании поэтической мысли, а на смене настроений и порождаемых ими образных ассоциаций.
Тот же принцип господствует и в окружении Донна, у представителей возглавляемой им «метафизической школы»: у эмоционально насыщенного, но поглощенного религиозным пафосом и поэтому более одностороннего Герберта и у несколько сентиментально-приторного Кэрью.
К указанным истокам восходит и избыточная метафоричность Донна. Вещи и явления не называются своими именами. Все в мире относительно и познается только через сопоставление, замещение и отождествление: одно через другое. Нередко метафоры становятся у Донна развернутыми, перерастают в аллегорию. Эмоциональные взрывы перемежаются философскими размышлениями, облеченными в сжатую и герметичную форму. Философски-медитативное начало получает на ранних этапах выход в виде отступлений. Затем оно выдвигается на первый план, приобретает все более отчетливо религиозный и вместе с тем поэтически отвлеченный характер.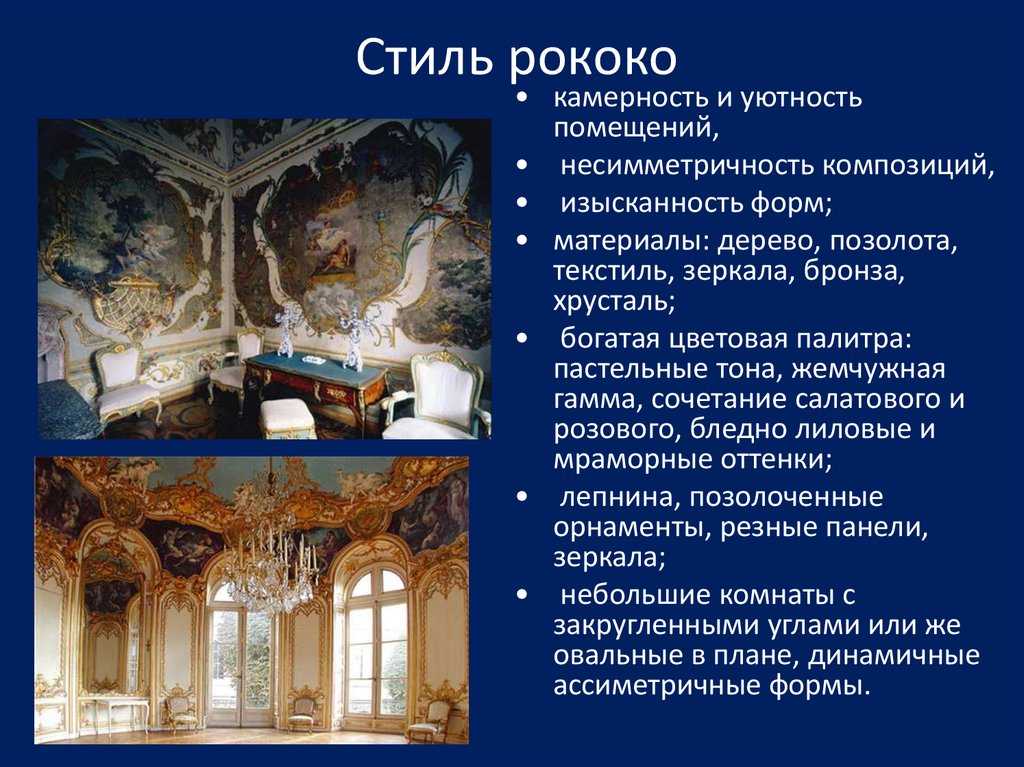
Показательны темы, охотно разрабатываемые Донном: муки и противоречия любви; страдание, причиняемое разлукой; смерть и ее философский смысл; превосходство осени, символа зрелости и заката, над весной, олицетворением юности и неосознанного слепого бурления жизненных сил (решение, прямо противоположное ренессансной традиции). Сатиры Донна язвительны и желчны.
Титаническая напряженность и объективный исторически-философский смысл того грандиозного общественного переворота, каким являлась английская революция, наиболее мощное отражение нашли, конечно, в поэме «Потерянный Рай» Мильтона. Поэзия Мильтона, писателя, глубоко впитавшего в себя античное наследие, поставившего гуманистические традиции, унаследованные от Возрождения, на службу новым боевым общественным задачам, принадлежит в целом классицизму. Но в «Потерянном Рае» очень яркое и принципиально важное воплощение получили черты эстетики барокко. В этом произведении в монументальных космических видениях, созданных воображением поэта, в преисполненных захватывающего драматизма картинах столкновения противоборствующих лагерей, в великолепных по своей выразительности лирических интермеццо привлекают внимание элементы героической романтики, обусловленной поэтически преображенными отголосками революционных событий середины века. «Потерянный Рай» Мильтона воочию свидетельствует, что барочная романтика (весьма характерная для этого художественного стиля) могла питаться не только аристократически-рыцарственными и пасторальными идеалами, но и пафосом революционной перестройки общества.
«Потерянный Рай» Мильтона воочию свидетельствует, что барочная романтика (весьма характерная для этого художественного стиля) могла питаться не только аристократически-рыцарственными и пасторальными идеалами, но и пафосом революционной перестройки общества.
Бурные события, сотрясавшие Англию в середине и во второй половине XVII века, находят и иные поэтические отзвуки. Свидетельство тому — творчество Драйдена. Драйден — драматург, поэт, теоретик литературы — писатель очень широкого диапазона. Неоднороден и стиль его произведений. Барочное начало отчетливее всего проявилось в его «героических пьесах». В них бушуют страсти, низвергаются лавины событий; возвышенная экзальтация и величественная риторика сосуществуют с неприкрытой чувственностью и натуралистической низменностью; пышность внешнего великолепия, обнажая суетность человеческих стремлений, оборачивается обманчивым миражем. Сходный пафос нередко одухотворяет и поэзию Драйдена. И здесь хвала пламенным, роковым страстям, героическим порывам и одновременное тревожное осознание шаткости бытия, зависимости человека от всесильной судьбы воплощаются темпераментно, патетически, в изощренной, выточенной рукой большого мастера форме. Печать особенного душевного подъема лежит, в частности, на стихах, в которых Драйден, тонкий критик и блестящий представитель эстетической мысли, воспевает чудодейственную, всепокоряющую силу искусства.
Печать особенного душевного подъема лежит, в частности, на стихах, в которых Драйден, тонкий критик и блестящий представитель эстетической мысли, воспевает чудодейственную, всепокоряющую силу искусства.
Если стихия Драйдена — патетика, то крупнейший поэт-сатирик Англии XVII столетия — Батлер. Его ироикомическая поэма «Гудибрас», пожалуй, лучший образец этого жанра в европейской поэзии данной эпохи. Сатира Батлера направлена против пуритан. Но пороки, которые он разоблачает, создавая образы пресвитерианина полковника Гудибраса и его оруженосца, индепендента Ральфо, — жадность, стяжательство, лицемерие, нетерпимость, носили объективно более широкий, типический характер. Ими были отмечены нравы того буржуазного общества, которое вырастало, эгоистически пожиная плоды революционного перелома. Сила Батлера — в народных корнях его громогласного смеха, в той удивительной рельефности, с которой вылеплены основные персонажи его ироикомической эпопеи.
В немецкой поэзии ярче, чем где бы то ни было, выражены трагические и иррационалистические аспекты барокко. Это становится понятным, если учесть, что XVII век был для Германии периодом Тридцатилетней войны, когда в стране хозяйничали свои и иноземные полчища, когда она стала ареной длительнейшей военной схватки, несшей с собой неимоверные опустошения и страдания, чреватой пагубными политическими последствиями. Но это время народных бедствий, государственного упадка и политического застоя было вместе с тем эпохой поразительного расцвета поэзии. Именно литература стала в тяжелую пору оплотом и прибежищем лучших духовных устремлений передовых сил нации. В ней отразилась и трагедия, переживаемая народом, и его мечты о мире и единстве, и непреклонное желание сохранить от уничтожения высокие этические ценности, и неугасаемый порыв к красоте Семнадцатый век закладывает фундамент национальной немецкой поэзии Нового времени, создает предпосылки для ее дальнейших замечательных достижений.
Это становится понятным, если учесть, что XVII век был для Германии периодом Тридцатилетней войны, когда в стране хозяйничали свои и иноземные полчища, когда она стала ареной длительнейшей военной схватки, несшей с собой неимоверные опустошения и страдания, чреватой пагубными политическими последствиями. Но это время народных бедствий, государственного упадка и политического застоя было вместе с тем эпохой поразительного расцвета поэзии. Именно литература стала в тяжелую пору оплотом и прибежищем лучших духовных устремлений передовых сил нации. В ней отразилась и трагедия, переживаемая народом, и его мечты о мире и единстве, и непреклонное желание сохранить от уничтожения высокие этические ценности, и неугасаемый порыв к красоте Семнадцатый век закладывает фундамент национальной немецкой поэзии Нового времени, создает предпосылки для ее дальнейших замечательных достижений.
Не удивительно, что в немецкой поэзии XVII века так часто всплывает тема смерти. В огне пожарищ Тридцатилетней войны человек соприкасался с ней ежедневно и ежечасно.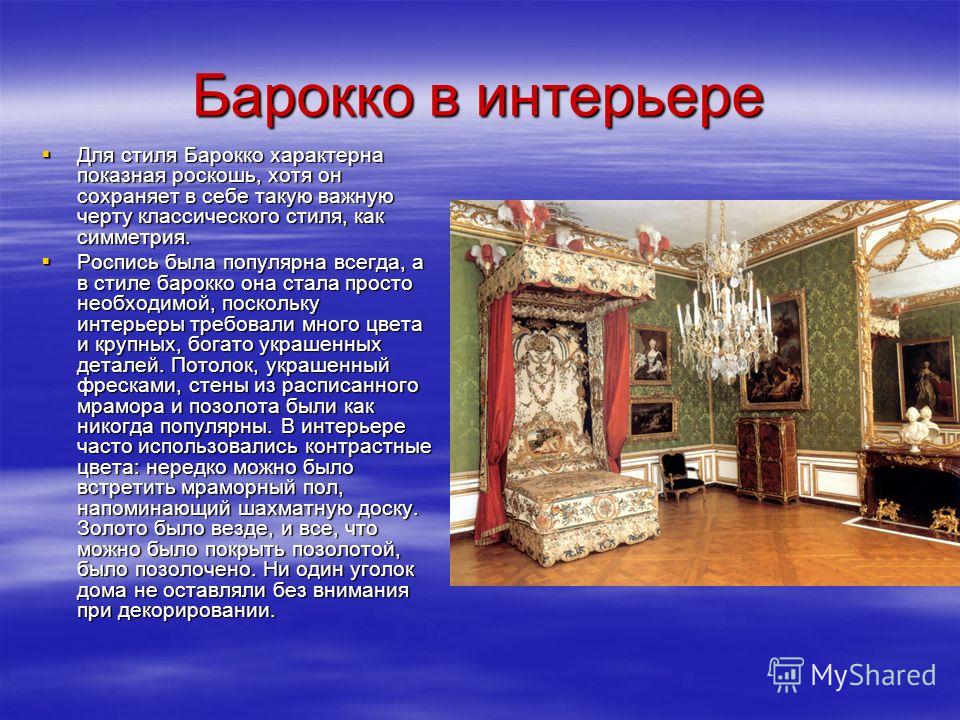 Иногда смерть воспринимается как единственное возможное избавление от невыносимых страданий. Тогда благость вечной жизни в царстве небесном противопоставляется воображением поэтов юдоли земного существования. Религиозные настроения пронизывают поэзию немецкого барокко, но далеко не исчерпывают ее содержания. Религиозность служит нередко проводником дидактических намерений: общественные бедствия объявляются наказанием за прегрешения, пороки и преступления, которые и бичуются поэтами. В вере поэты барокко ищут утешение и источник надежд на лучшее будущее. Нередко воспевание Творца как бы отодвигается на задний план хвалой сотворенной им вселенной, неотразимой прелести природы, матери всего живого (мотив, который звучит более непосредственно, задушевно и просто у поэтов-лютеран, например у Даха и Риста, и более изощренно-манерно, с оттенком чувствительности, у поэтов-католиков вроде Шпее). Веяние подлинного трагизма ощущается в немецкой поэзии барокко именно потому, что она, как правило, проникнута духом борьбы, столкновения противоположных начал — признания всесилия смерти и неистощимой светлой жажды жизни и счастья, воспарения в небесные высоты и привязанности ко всему земному, отчаяния перед лицом разразившейся катастрофы и стоической воли, не дающей себя сломить.
Иногда смерть воспринимается как единственное возможное избавление от невыносимых страданий. Тогда благость вечной жизни в царстве небесном противопоставляется воображением поэтов юдоли земного существования. Религиозные настроения пронизывают поэзию немецкого барокко, но далеко не исчерпывают ее содержания. Религиозность служит нередко проводником дидактических намерений: общественные бедствия объявляются наказанием за прегрешения, пороки и преступления, которые и бичуются поэтами. В вере поэты барокко ищут утешение и источник надежд на лучшее будущее. Нередко воспевание Творца как бы отодвигается на задний план хвалой сотворенной им вселенной, неотразимой прелести природы, матери всего живого (мотив, который звучит более непосредственно, задушевно и просто у поэтов-лютеран, например у Даха и Риста, и более изощренно-манерно, с оттенком чувствительности, у поэтов-католиков вроде Шпее). Веяние подлинного трагизма ощущается в немецкой поэзии барокко именно потому, что она, как правило, проникнута духом борьбы, столкновения противоположных начал — признания всесилия смерти и неистощимой светлой жажды жизни и счастья, воспарения в небесные высоты и привязанности ко всему земному, отчаяния перед лицом разразившейся катастрофы и стоической воли, не дающей себя сломить.
Важнейшее обстоятельство — изощренное и преисполненное блеска формальное мастерство, отличающее поэтов барокко. В этом отношении, следуя по пути, проторенному Опицем, они совершают переворот, открывающий по сравнению с тяжеловесным и архаическим стихотворством XVI столетия совершенно новый этап в развитии немецкой литературы. В стремлении к формальному совершенству, в подлинном культе формы как бы воплощается страстное стремление найти противовес отталкивающей хаотичности и бесформенности, воцарившихся в реальной деиствительности. Поэты барокко виртуозно владеют ритмом, проявляют неиссякаемую изобретательность в создании разнообразнейших метрических и строфических форм; охотно прибегают к утонченным приемам звукописи, их стихи, как правило, привлекают своей музыкальностью. Образная насыщенность и выразительность лирики немецкого барокко подчинена определенной каноничности, характерной для барокко в целом. Но потребность следовать жанровым и стилистическим канонам отнюдь не мешает проявлению в поэзии XVII века неповторимо личностного, индивидуального начала.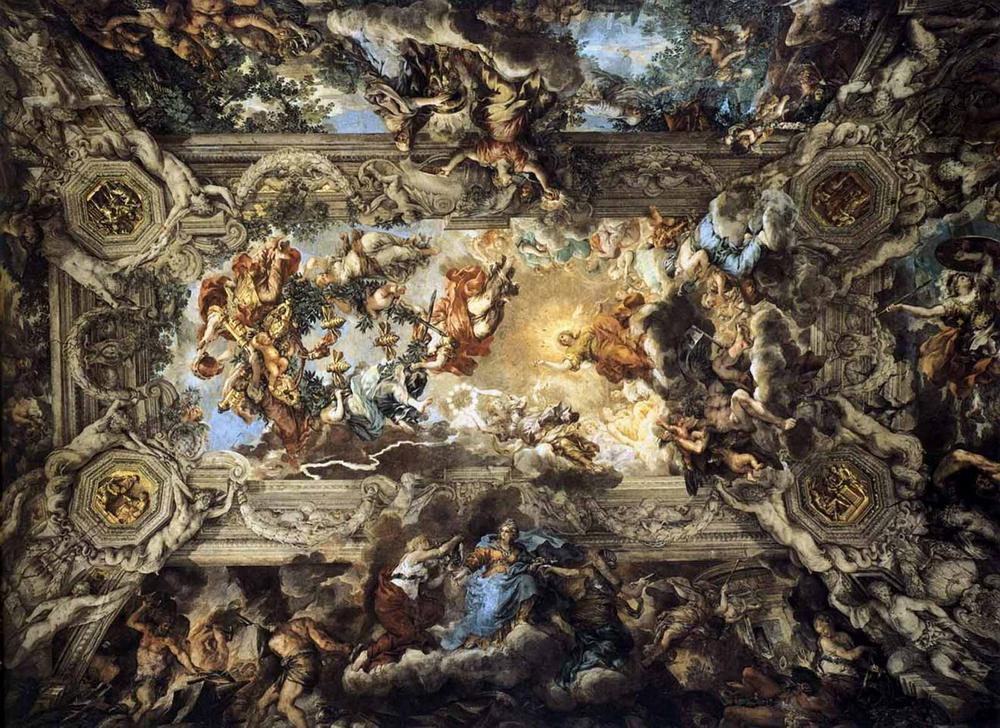
Наиболее крупные и показательные ее представители в Германии — Опиц, Флеминг, Грифиус, Гофмансвальдау и Гюнтер. Опиц стоит у истоков ее расцвета. Без провозглашенной им литературной реформы (очищение и кодификация литературной речи; призыв использовать художественные достижения ренессансной культуры других европейских стран во главе с Италией, Францией и Англией; обращение к античности как к примеру для «подражания»; решительное обновление системы поэтических жанров) не был бы возможен ее расцвет. Опиц был также объятым горестью очевидцем Тридцатилетней войны. В своих проникнутых патриотическим пафосом стихах (например, в «Слове утешения среди бедствий войны») Опиц разрабатывал темы, похожие на те, к которым обращались и многие его современники — барочные поэты. Но художественный ключ, в котором он их решал, — иной. Опиц во многом опирался на творческие уроки Ронсара и Плеяды. Он — зачинатель в Германии классицизма (так и не получившего в XVII веке в растерзанной войною стране дальнейшего развития). Стиль произведений Опица прозрачнее, линеарнее, яснее, чем у поэтов барокко. Синтаксическое членение поэтической фразы у него подчинено законам симметрии и, как правило, совпадает с ритмическими единицами. Композиционное построение его стихов строго логично. Вместе с тем Опицу чужды попытки барочных поэтов передать невыразимое, воссоздать ощущение таинственной непознаваемости бытия и одновременно чудовищной противоестественности творящегося вокруг. Опиц стараетсяся глядеть на все «очами разума». Его поэзия, пропитанная рационалистическим началом, одновременно и суше, прозаичнее творений Грифиуса или Гофмансвальдау.
Стиль произведений Опица прозрачнее, линеарнее, яснее, чем у поэтов барокко. Синтаксическое членение поэтической фразы у него подчинено законам симметрии и, как правило, совпадает с ритмическими единицами. Композиционное построение его стихов строго логично. Вместе с тем Опицу чужды попытки барочных поэтов передать невыразимое, воссоздать ощущение таинственной непознаваемости бытия и одновременно чудовищной противоестественности творящегося вокруг. Опиц стараетсяся глядеть на все «очами разума». Его поэзия, пропитанная рационалистическим началом, одновременно и суше, прозаичнее творений Грифиуса или Гофмансвальдау.
Связь с ренессансными традициями ощущается и у гениального по своим задаткам Флеминга, но преломляется она своеобразно, сочетаясь с типично барочными чертами. Флеминг — поэт, одаренный мощным темпераментом, отличающийся многообразием эмоциональных регистров. Бурным кипением душевных сил преисполнены его стихи, воспевающие радости жизни, любовь, красоту, природу. Весьма примечательны философские стихи Флеминга. Глубокие мысли и мощные по накалу чувства в них как бы закованы в стальную броню лапидарных сентенций. Мировоззрение Флеминга питается традициями стоицизма. Его пафос — защита достоинства и автономности человеческой личности, твердое убеждение, что главная этическая задача, которую должен осуществлять человек, — утверждение цельности своего «я», верность индивидуума самому себе. Высшее художественное выражение этого круга идей Флеминга — сонет «К самому себе», один из шедевров мировой лирики. Барочной пышностью и торжественной приподнятостью слога отличаются стихи, посвященные Флемингом пребыванию в России: свидетельство того, какое значение он придавал этому путешествию по великой, но еще столь малознакомой его соплеменникам стране.
Глубокие мысли и мощные по накалу чувства в них как бы закованы в стальную броню лапидарных сентенций. Мировоззрение Флеминга питается традициями стоицизма. Его пафос — защита достоинства и автономности человеческой личности, твердое убеждение, что главная этическая задача, которую должен осуществлять человек, — утверждение цельности своего «я», верность индивидуума самому себе. Высшее художественное выражение этого круга идей Флеминга — сонет «К самому себе», один из шедевров мировой лирики. Барочной пышностью и торжественной приподнятостью слога отличаются стихи, посвященные Флемингом пребыванию в России: свидетельство того, какое значение он придавал этому путешествию по великой, но еще столь малознакомой его соплеменникам стране.
Творчество Грифиуса — одухотворенная кульминация тех трагических и пессимистических настроений, которые порождались в сознании передовых людей Германии ужасами Тридцатилетней войны. Каждое его стихотворение — воплощение мучительной драмы, переживаемой кровоточащей душой. Жизнь в представлении Грифиуса — и поэта, и создателя трагедий, — вышла из своей колеи; воцарились мрак и хаос. Удел человека — печаль и страдание; все начинания человека суетны и тленны. Лейтмотивы поэзии Грифиуса — бренность, тщета, самообман, которому предается человек, игрушка судьбы, мимолетность жизни, сравнение ее с игрой, театральным представлением. Если жажда славы воспринималась людьми эпохи Возрождения как благороднейший стимул человеческого поведения, то для Грифиуса слава — ничто, клубы дыма, развеиваемые малейшим дуновением ветра. Один из любимейших образов Грифиуса — сравнение человека с догорающей свечой, Но все это лишь один из аспектов художественного мироощущения Грифиуса. В Грифиусе есть нечто родственное Паскалю, автору «Мыслей». Как для Паскаля, так и в глазах Грифиуса человек не только немощен и жалок, но одновременно и велик. Величие его — в непоколебимой силе духа. Грифиус воспевает мучеников, которых пытают, но которые не сдаются, проявляя героическую стойкость и сохраняя верность идеалу.
Жизнь в представлении Грифиуса — и поэта, и создателя трагедий, — вышла из своей колеи; воцарились мрак и хаос. Удел человека — печаль и страдание; все начинания человека суетны и тленны. Лейтмотивы поэзии Грифиуса — бренность, тщета, самообман, которому предается человек, игрушка судьбы, мимолетность жизни, сравнение ее с игрой, театральным представлением. Если жажда славы воспринималась людьми эпохи Возрождения как благороднейший стимул человеческого поведения, то для Грифиуса слава — ничто, клубы дыма, развеиваемые малейшим дуновением ветра. Один из любимейших образов Грифиуса — сравнение человека с догорающей свечой, Но все это лишь один из аспектов художественного мироощущения Грифиуса. В Грифиусе есть нечто родственное Паскалю, автору «Мыслей». Как для Паскаля, так и в глазах Грифиуса человек не только немощен и жалок, но одновременно и велик. Величие его — в непоколебимой силе духа. Грифиус воспевает мучеников, которых пытают, но которые не сдаются, проявляя героическую стойкость и сохраняя верность идеалу. Вся поэзия Грифиуса с ее мощными антитезами, строгим лаконизмом стиха, сжатыми сентенциями, которые заключают сонет и в своей суровости звучат не столько как итог, сколько как беспощадный приговор, — величественный памятник мужеству, выдержке и силе человеческого духа, могуществу разума, способного остичь всю глубину человеческих страстей и страданий, но одновременно и подчинить их своему дисциплинирующему началу.
Вся поэзия Грифиуса с ее мощными антитезами, строгим лаконизмом стиха, сжатыми сентенциями, которые заключают сонет и в своей суровости звучат не столько как итог, сколько как беспощадный приговор, — величественный памятник мужеству, выдержке и силе человеческого духа, могуществу разума, способного остичь всю глубину человеческих страстей и страданий, но одновременно и подчинить их своему дисциплинирующему началу.
После окончания Тридцатилетней войны в немецкой поэзии барокко усиливаются светски-аристократические тенденции, близкие в какой-то мере французской прециозности. Показательна в этом отношении деятельность так называемой Второй силезской школы во главе с Гофмансвальдау. Разработка привычных для немецкого барокко тем бренности и скоротечности живого лишается в руках Гофмансвальдау прежней идейной насыщенности и духовной напряженности, приобретает временами внешний характер, иногда оборачивается позой. И все же неверно было бы видеть в творчестве этого чрезвычайно одаренного поэта одно торжество условности и манерности.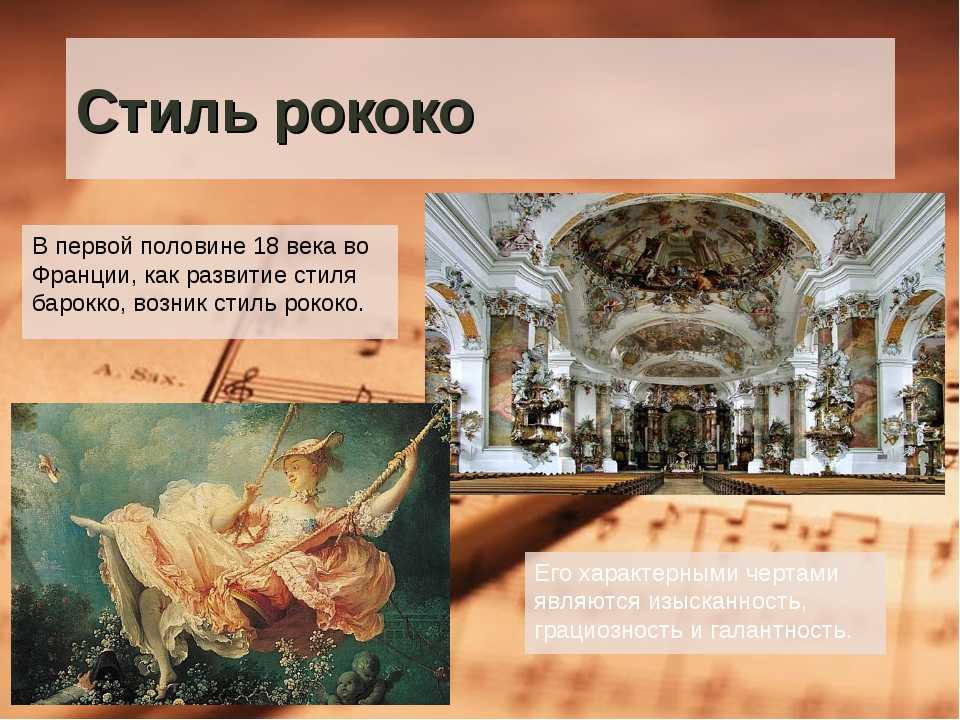 Лучшие любовные стихи Гофмансвальдау, при всей зависимости от прециозно-петраркистских канонов, преисполнены неподдельной страсти, бьющего через край, бурного по своему выражению упоения красотой. Виртуозное формальное мастерство Гофмансвальдау, его склонность к пышной образной орнаментации и ритмическим изыскам также обладают эмоциональным подтекстом, ибо основаны не на холодном расчете, а на взволнованном преклонении перед прекрасным.
Лучшие любовные стихи Гофмансвальдау, при всей зависимости от прециозно-петраркистских канонов, преисполнены неподдельной страсти, бьющего через край, бурного по своему выражению упоения красотой. Виртуозное формальное мастерство Гофмансвальдау, его склонность к пышной образной орнаментации и ритмическим изыскам также обладают эмоциональным подтекстом, ибо основаны не на холодном расчете, а на взволнованном преклонении перед прекрасным.
Исключительно самобытна фигура Гюнтера, одновременно заключающего в Германии эру барокко и смело предваряющего век Просвещения. Этот обреченный на нищенское существование студент медицины скончался в двадцатисемилетнем возрасте. В стихах Гюнтера дань поэтическим традициям барокко сочетается с поразительными для его времени непосредственностью и свободой в выражении страданий и бурного протеста. Гюнтер сближает поэзию с повседневностью, превращает ее в сокровенный дневник души мятежного и гордого поэта-разночинца, преследуемого невзгодами. Создается впечатление, что перед нами предвестие грядущего периода «бури и натиска».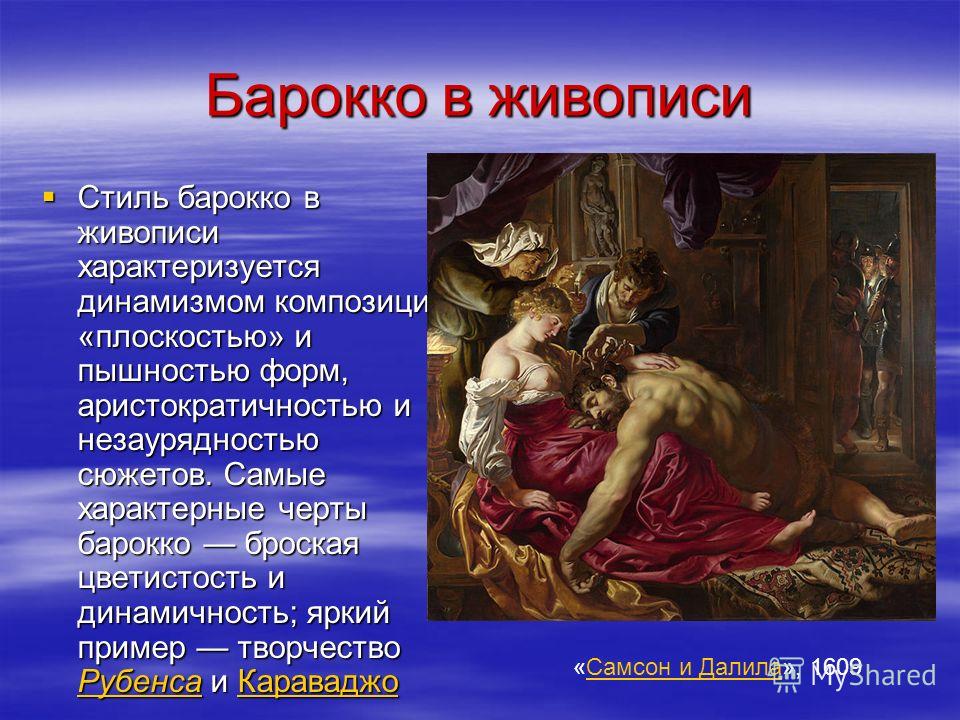
Принципиально существенное значение имеют те специфические черты, которые барокко приобрело в поэзии стран Центральной и Юго-Восточной Европы. И в Польше, и в Чехии, и в Словакии, и в Венгрии, и в Далмации художественный стиль барокко получил широкое распространение и выдвинул целую плеяду примечательных имен. Барокко в этой культурной зоне (а также в Албании) складывалось под несомненным воздействием художественных импульсов, шедших с Запада, исходивших, например, от творчества Тассо, Марино и его школы, от французской прециозности или местами немецкой религиозной поэзии. Но преломлялись эти влияния своеобразно. Своеобразие это проявляется в каждой из только что упомянутых стран по-разному. (Так, например, для польской поэзии барокко, даже для самых ее изощренно-условных представителей, характерно изобилие бытовых реалий, почерпнутых в гуще повседневной жизни, какая-то особая лихость тона, крепкий, соленый юмор). Но присуще этому своеобразию и нечто общее, единое. В этой связи хотелось бы выделить два момента: роль фольклорного начала в поэзии и тяготение к созданию монументальных эпических произведений, проникнутых патриотическим духом. Таковы, например, поэмы «Осман» дубровницкого писателя Гундулича, «Сигетское бедствие» Зриньи — крупнейшее произведение венгерской литературы XVII века, «Хотинская война» поляка Потоцкого. Все эти три замечательные поэмы порождены подъемом освободительного движения против турецкого гнета и прославляют героическую борьбу самоотверженных защитников независимости и чести отчизны. В «Османе» Гундулича звучит к тому же пламенный призыв к единению славянских народов во имя осуществления общей цели — освобождения от иноземного ига. Во всех трех поэмах традиционные приемы западноевропейской барочной эпической поэзии подчинены, таким образом, художественному решению самобытных идейных задач, остроактуальных по своему политическому содержанию и общенациональных по своему значению.
Таковы, например, поэмы «Осман» дубровницкого писателя Гундулича, «Сигетское бедствие» Зриньи — крупнейшее произведение венгерской литературы XVII века, «Хотинская война» поляка Потоцкого. Все эти три замечательные поэмы порождены подъемом освободительного движения против турецкого гнета и прославляют героическую борьбу самоотверженных защитников независимости и чести отчизны. В «Османе» Гундулича звучит к тому же пламенный призыв к единению славянских народов во имя осуществления общей цели — освобождения от иноземного ига. Во всех трех поэмах традиционные приемы западноевропейской барочной эпической поэзии подчинены, таким образом, художественному решению самобытных идейных задач, остроактуальных по своему политическому содержанию и общенациональных по своему значению.
Семнадцатый век в странах, раздираемых жестокими военными конфликтами и охваченных пламенем национально-освободительных движений, — пора бурного расцвета, переживаемого фольклором. Свидетельством тому служат и многочисленные солдатские песни в Германии, и то бесшабашно удалые, то горестные песни куруцев — венгерских повстанцев, борцов против господства иноземных правителей — Габсбургов, и эпические циклы, воспевающие героизм сербских юнаков и гайдуков, и болгарские гайдуцкие песни.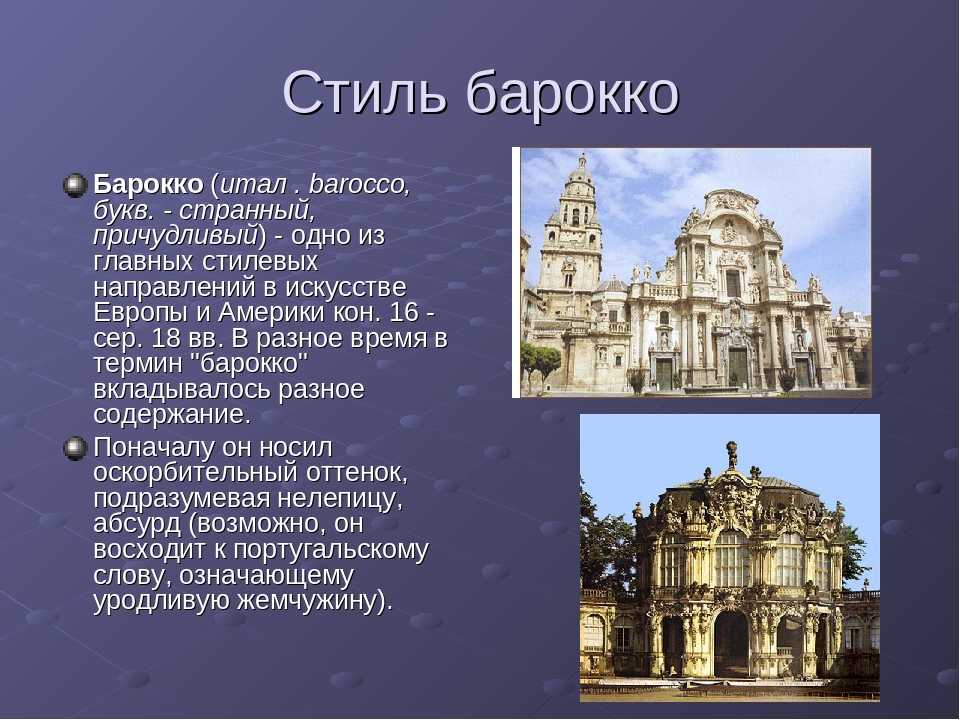 У некоторых народов Центральной и Югo-Восточной Европы (например, у сербов или болгар) фольклор из-за замедленного развития письменной литературы занимает в XVII веке, как выразитель дум и чаяний народных, центральное место в системе словесного искусства. В других литературах этой зоны он питает «высокую» поэзию, служит для нее плодотворным источником образов, ритмико-интонационной структуры, мелодики стиха. Яркие примеры тому можно почерпнуть и в любовных стихах мастера дубровницкой поэзии Ивана Бунича, и в лирических отступлениях у того же Гундулича, автора «Османа», и в задушевных хоровых песнях, которые распевают крестьянские девушки и юноши, герои «Роксоланок» Зиморовица, и в некоторых сатирических миниатюрах крупнейшего польского поэта XVII века Потоцкого.
У некоторых народов Центральной и Югo-Восточной Европы (например, у сербов или болгар) фольклор из-за замедленного развития письменной литературы занимает в XVII веке, как выразитель дум и чаяний народных, центральное место в системе словесного искусства. В других литературах этой зоны он питает «высокую» поэзию, служит для нее плодотворным источником образов, ритмико-интонационной структуры, мелодики стиха. Яркие примеры тому можно почерпнуть и в любовных стихах мастера дубровницкой поэзии Ивана Бунича, и в лирических отступлениях у того же Гундулича, автора «Османа», и в задушевных хоровых песнях, которые распевают крестьянские девушки и юноши, герои «Роксоланок» Зиморовица, и в некоторых сатирических миниатюрах крупнейшего польского поэта XVII века Потоцкого.
Второй ведущий стиль в европейской поэзии XVII века — классицизм. Социальные корни классицистической литературы XVII столетия, овеянной духом рационалистической ясности, гармонии, меры, творческой дисциплины и душевного равновесия, были иными, чем у барокко.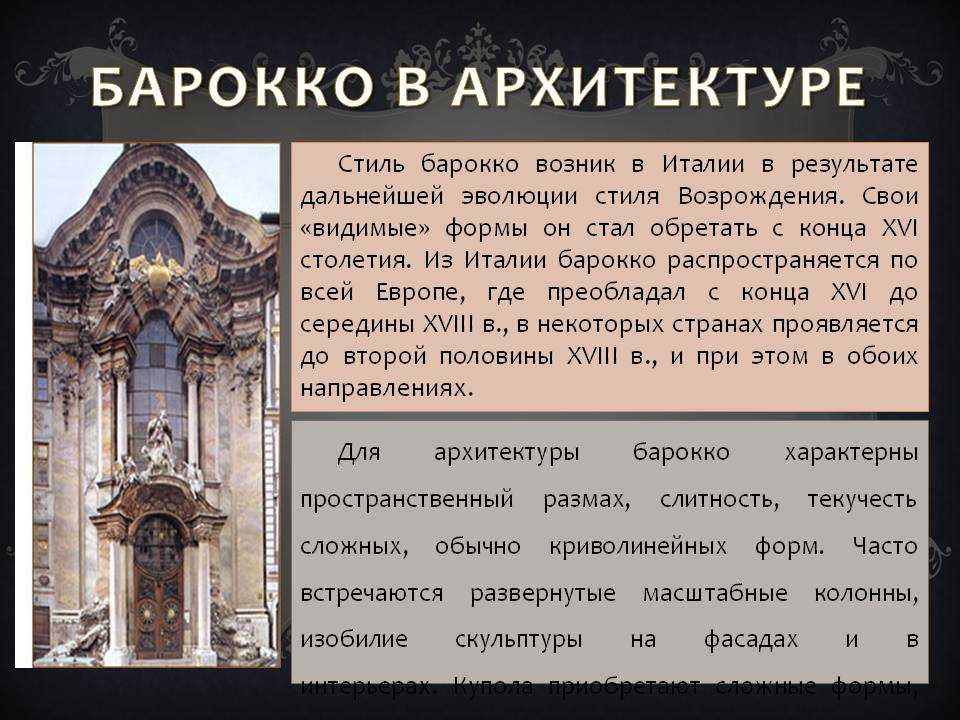 Особенно яркий расцвет классицизм пережил во Франции, и прежде всего в годы укрепления абсолютизма. Однако это отнюдь не означает, что следует прямолинейно сводить идейную сущность литературы классицизма к защите и прославлению абсолютной монархии и утверждаемого ею порядка. Литераторы-классицисты отражают во Франции умонастроения очень широких и в первую очередь «срединных» общественных кругов — и подъем их самосознания в результате национального объединения страны и неуклонного роста ее государственной мощи, и их зависимость от аристократической цивилизации, и те рационалистические идеалы, которые они утверждали и в свете которых перерабатывали импульсы, идущие от господствующей среды, и серьезные колебания и сомнения, которые ими овладевали в моменты обострения общественных противоречий, и присущую им внутреннюю разнородность. Наличие подобной Ррзнородности и создавало почву для существования принципиально отличных друг от друга течений внутри классицизма. Оно объясняет также, почему гражданственные идеалы, утверждавшиеся выдающимися писателями-классицистами, хотя и облекались в монархическую форму, но далеко не совпадали по своему содержанию с реальными политическими устремлениями абсолютной монархии, будучи гораздо шире и общезначимее последних.
Особенно яркий расцвет классицизм пережил во Франции, и прежде всего в годы укрепления абсолютизма. Однако это отнюдь не означает, что следует прямолинейно сводить идейную сущность литературы классицизма к защите и прославлению абсолютной монархии и утверждаемого ею порядка. Литераторы-классицисты отражают во Франции умонастроения очень широких и в первую очередь «срединных» общественных кругов — и подъем их самосознания в результате национального объединения страны и неуклонного роста ее государственной мощи, и их зависимость от аристократической цивилизации, и те рационалистические идеалы, которые они утверждали и в свете которых перерабатывали импульсы, идущие от господствующей среды, и серьезные колебания и сомнения, которые ими овладевали в моменты обострения общественных противоречий, и присущую им внутреннюю разнородность. Наличие подобной Ррзнородности и создавало почву для существования принципиально отличных друг от друга течений внутри классицизма. Оно объясняет также, почему гражданственные идеалы, утверждавшиеся выдающимися писателями-классицистами, хотя и облекались в монархическую форму, но далеко не совпадали по своему содержанию с реальными политическими устремлениями абсолютной монархии, будучи гораздо шире и общезначимее последних.
Вклад буржуазных кругов и выдвинутой ими интеллигенции в развитие классицизма был принципиально существенным. В свете этого обстоятельства становится понятным, почему классицизм в XVII столетии не переживает яркого расцвета в Германии, Италии и Испании. Во всех этих странах, подвластных скипетру династии Габсбургов, буржуазия оказалась недостаточно сильной и была вынуждена капитулировать перед феодальным лагерем. В Германии и Италии так и не сложилось единое национальное государство. Испанский абсолютизм также не играл роли цивилизующего центра.
Иначе обстоит дело с Англией. Бурные общественные катаклизмы, ареной которых становилась страна, служили почвой для произрастания в художественной литературе не только разных по своей идейной направленности барочных тенденций. Классицизм также обильно представлен в английской литературе XVII столетия (особенно в годы республики). Самый яркий пример тому, как уже отмечалось, одухотворенная поэзия Мильтона. Нередки в английской литературе XVII столетия и случаи сложного переплетения барочных и классицистических тенденций.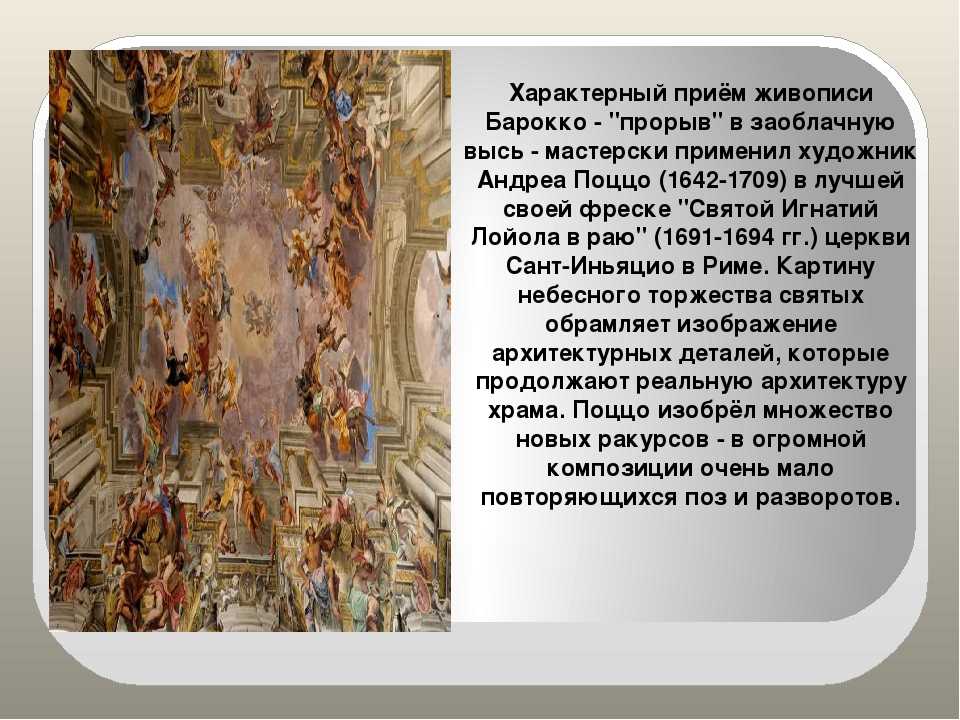 Последние наличествуют и в стихах Геррика, утонченного певца природы и радостей, даруемых сельской жизнью, и в сочинениях соратника Мильтона, пуританина Марвелла, испытавшего на себе одновременно влияние барочной «метафизической школы», и в творчестве упоминавшегося ранее Драйдена.
Последние наличествуют и в стихах Геррика, утонченного певца природы и радостей, даруемых сельской жизнью, и в сочинениях соратника Мильтона, пуританина Марвелла, испытавшего на себе одновременно влияние барочной «метафизической школы», и в творчестве упоминавшегося ранее Драйдена.
Для классицистов характерна целеустремленная ориентация на античное наследие как некую художественную норму, широкое использование жанров, сюжетов и образов, воспринятых от древности, поиски значительных жизненных обобщений, рационалистические тенденции в художественном мироощущении, утверждение идеала душевной гармонии, равновесия, достигаемого ценой разумного самоограничения. Для последовательного классициста ценность художественного произведения в значительной мере определяется степенью его логической стройности и ясности, упорядоченностью его композиционного членения, четкостью в отборе изображаемых жизненных явлении.
Существенным аспектом эстетики классицизма был принцип «подражания природе». Он имел для своего времени весьма прогрессивный смысл, ибо утверждал познаваемость действительности, необходимость обобщения ее характерных черт.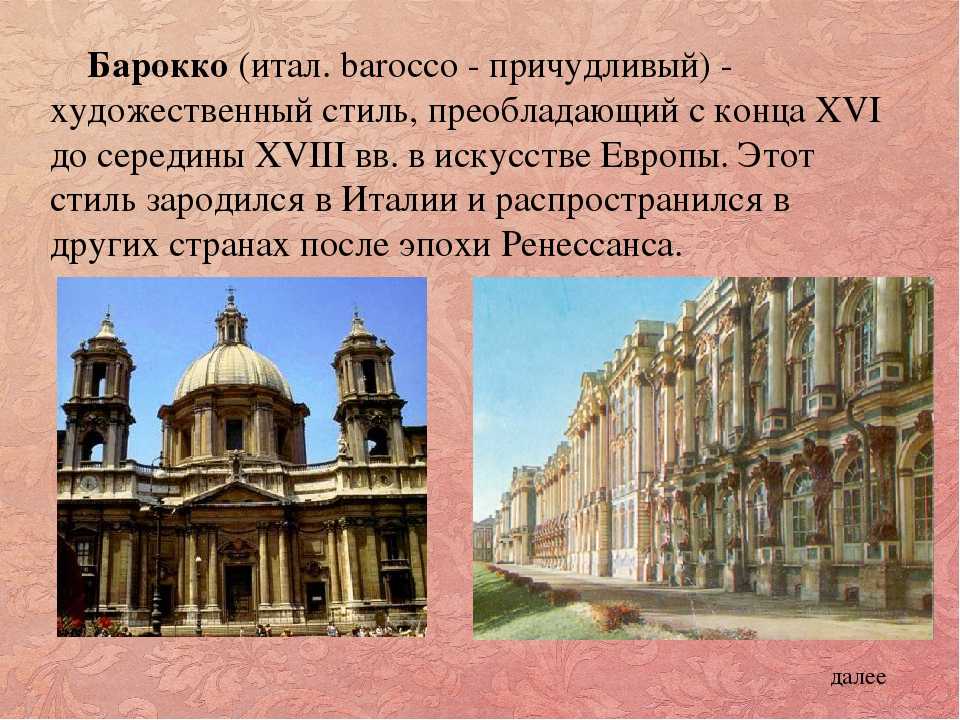 Однако искусство, по мнению теоретиков классицизма, должно было «подражать природе» — то есть воспроизводить действительность — лишь в той мере, в какой она сама соответствовала законам разума, Таким образом, природа, будучи для классицистов основным объектом искусства, могла представать в их произвдеениях лишь в особом, как бы преображенном, облагороженном виде, лишенная всего того, что не соответствовало поедставлениям художника и светской среды, с мнением которой он был обязан считаться, о разумном ходе вещей и о правилах «приличий», требованиях хорошего тона. Следует, однако, подчеркнуть, что выдающиеся мастера классицизма, хотя и считались в своем творчестве с теоретическими канонами, вместе с тем значительно преодолевали догматические рамки этих канонов и, проникновенно раскрывая душевные конфликты, переживаемые героями, обнажали сложную диалектику жизненных явлений.
Однако искусство, по мнению теоретиков классицизма, должно было «подражать природе» — то есть воспроизводить действительность — лишь в той мере, в какой она сама соответствовала законам разума, Таким образом, природа, будучи для классицистов основным объектом искусства, могла представать в их произвдеениях лишь в особом, как бы преображенном, облагороженном виде, лишенная всего того, что не соответствовало поедставлениям художника и светской среды, с мнением которой он был обязан считаться, о разумном ходе вещей и о правилах «приличий», требованиях хорошего тона. Следует, однако, подчеркнуть, что выдающиеся мастера классицизма, хотя и считались в своем творчестве с теоретическими канонами, вместе с тем значительно преодолевали догматические рамки этих канонов и, проникновенно раскрывая душевные конфликты, переживаемые героями, обнажали сложную диалектику жизненных явлений.
К тому же в развитии классицистической поэзии во Франции сразу же обозначились принципиально отличные друг от друга тенденции. Первый значительный этап в истории классицизма — начало XVII века, годы царствования Генриха IV. Крупнейшие фигуры во французской поэзии этого времени — Франсуа Малерб, мастер торжественной оды, и сатирик Матюрен Ренье. Выступая пионерами классицизма во французской литературе, они вместе с тем представляли два разных течения внутри одного зарождающегося направления. В соперничестве Малерба и Ренье поэт-царедворец, создатель апофеозных од, считавший своим первейшим долгом прославление господствующей государственной власти, противостоял писателю, который, примиряясь с существующим порядком, высоко ценил вместе с тем внутреннюю независимость и стремился в своих произведениях обнажать социальные язвы окружающей его действительности. В сатирических характерах, созданных Ренье, сквозь классицистические по своей природе обобщения проступают сильно выраженные реалистические тенденции, чуждые художественной манере Малерба.
Первый значительный этап в истории классицизма — начало XVII века, годы царствования Генриха IV. Крупнейшие фигуры во французской поэзии этого времени — Франсуа Малерб, мастер торжественной оды, и сатирик Матюрен Ренье. Выступая пионерами классицизма во французской литературе, они вместе с тем представляли два разных течения внутри одного зарождающегося направления. В соперничестве Малерба и Ренье поэт-царедворец, создатель апофеозных од, считавший своим первейшим долгом прославление господствующей государственной власти, противостоял писателю, который, примиряясь с существующим порядком, высоко ценил вместе с тем внутреннюю независимость и стремился в своих произведениях обнажать социальные язвы окружающей его действительности. В сатирических характерах, созданных Ренье, сквозь классицистические по своей природе обобщения проступают сильно выраженные реалистические тенденции, чуждые художественной манере Малерба.
Малерб-теоретик сыграл важную роль в кодификации французского литературного языка. Он был основателем поэтической школы, учителем таких талантливых поэтов, как Ракан и Менар. Центральное место в поэтическом творчестве самого Малерба занимает политическая лирика. Основная ее тональность — приподнятая торжественность. Однако в одах Малерба находят свое выражение и отзвуки затаенного трагизма, вызванного противоречиями, гложущими абсолютистскую Францию, и тревогой за будущее страны. В лучших произведениях Малерба-лирика история предстает в виде многотрудного пути, требующего жертв и сурового напряжения сил. В философской лирике поэта преобладает жанр так называемых «утешений». Характерным его образцом являются знаменитые стансы «Утешение господину Дюперье по поводу смерти его дочери» Избранная Малербом тема сознательно разрешалась поэтом в общей форме, как утешение по поводу утраты близкого человека вообще. Поэт стремится смягчить страдания друга с помощью логических доводов о необходимости подавить горе и вернуться к созидательной деятельности; композиция стихотворения также строго логическая.
Он был основателем поэтической школы, учителем таких талантливых поэтов, как Ракан и Менар. Центральное место в поэтическом творчестве самого Малерба занимает политическая лирика. Основная ее тональность — приподнятая торжественность. Однако в одах Малерба находят свое выражение и отзвуки затаенного трагизма, вызванного противоречиями, гложущими абсолютистскую Францию, и тревогой за будущее страны. В лучших произведениях Малерба-лирика история предстает в виде многотрудного пути, требующего жертв и сурового напряжения сил. В философской лирике поэта преобладает жанр так называемых «утешений». Характерным его образцом являются знаменитые стансы «Утешение господину Дюперье по поводу смерти его дочери» Избранная Малербом тема сознательно разрешалась поэтом в общей форме, как утешение по поводу утраты близкого человека вообще. Поэт стремится смягчить страдания друга с помощью логических доводов о необходимости подавить горе и вернуться к созидательной деятельности; композиция стихотворения также строго логическая.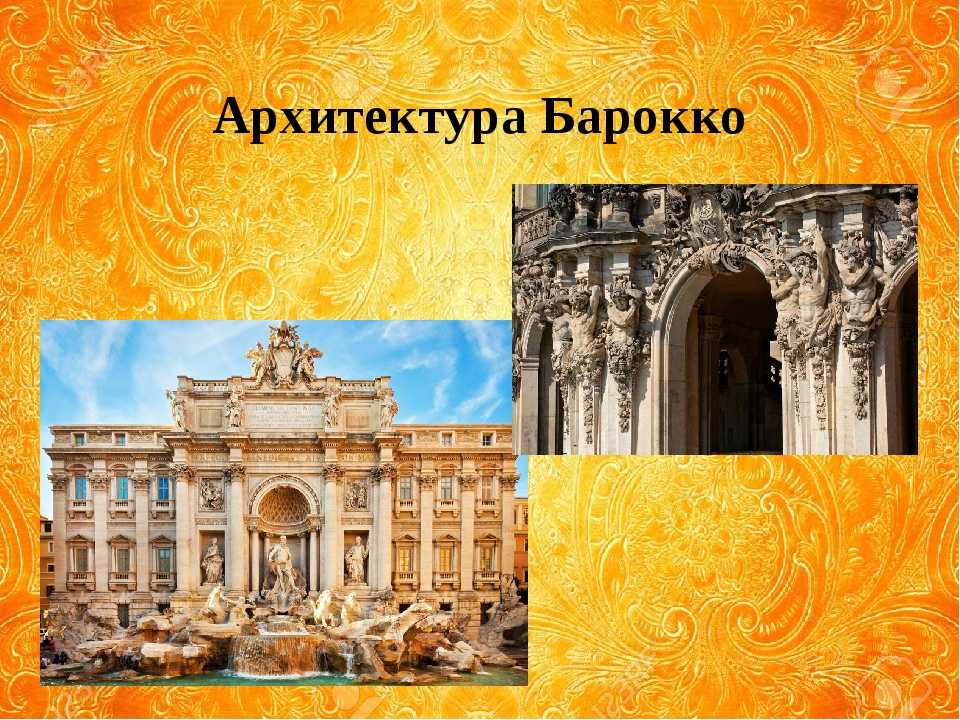 При всей своей рационалистичности, это стихотворение, как и другие поэтические шедевры Малерба, насыщено своеобразной эмоциональной энергией. Основной источник этой внутренней силы, поэтической мощи, как обычно у Малерба, — ритм, которым он владеет в совершенстве.
При всей своей рационалистичности, это стихотворение, как и другие поэтические шедевры Малерба, насыщено своеобразной эмоциональной энергией. Основной источник этой внутренней силы, поэтической мощи, как обычно у Малерба, — ритм, которым он владеет в совершенстве.
Сатиры Ренье можно разделить на две большие группы. В первой из них преобладает лирико-публицистическое начало; сатиры же второго типа, изображающие в поэтической форме социально-бытовые типы или жанровые сцены, называются обычно термином «бытовые». Тематика лирико-публицистических сатир Ренье многогранна, многоголоса. О чем бы, однако, ни говорил Ренье, на первый план в его произведениях, как правило, выступают размышления о природе и предназначении поэзии и о судьбе поэта. Это и есть главенствующая тема его лирико-публицистических сатир. В бытовых сатирах Ренье преобладает сатирическое изображение придворного дворянства эпохи Генриха IV и воспроизведение пагубных последствий крепнущей власти денег (отсюда и живой интерес поэта к оборотной стороне современной действительности, к нравам деклассирующихся низов).
В формирующемся направлении классицизма Ренье представляет то его течение, которое с мировоззренческой точки зрения было наиболее демократическим и наиболее тесно связанным с передовыми традициями эпохи Возрождения. В то же самое время Ренье был гениальным первооткрывателем, предвосхитившим многие из тенденции, которым было суждено обрести законченную форму позднее, в 60-70-х годах, в период наивысшего расцвета классицизма во французской литературе XVII столетия.
Именно в эти годы сложный синтез различных идейных веяний и эстетических устремлений (придворно-светских, учено-гуманистических и народных по сво истокам), которые лучшие представители этого литературного направления вбирали и творчески переплавляли, достигает своей максимальной полноты и зрелости. Изящество и блеск, воспринятые от светской среды, богатство гуманистической культуры с ее прекрасным знанием человеческой души, с ее тяготением к логической ясности и тонкой художественной гармонии сочетаются со все более глубоким проникновением в противоречия современной жизни, иногда перерастающим в художественное осознание их непримиримости.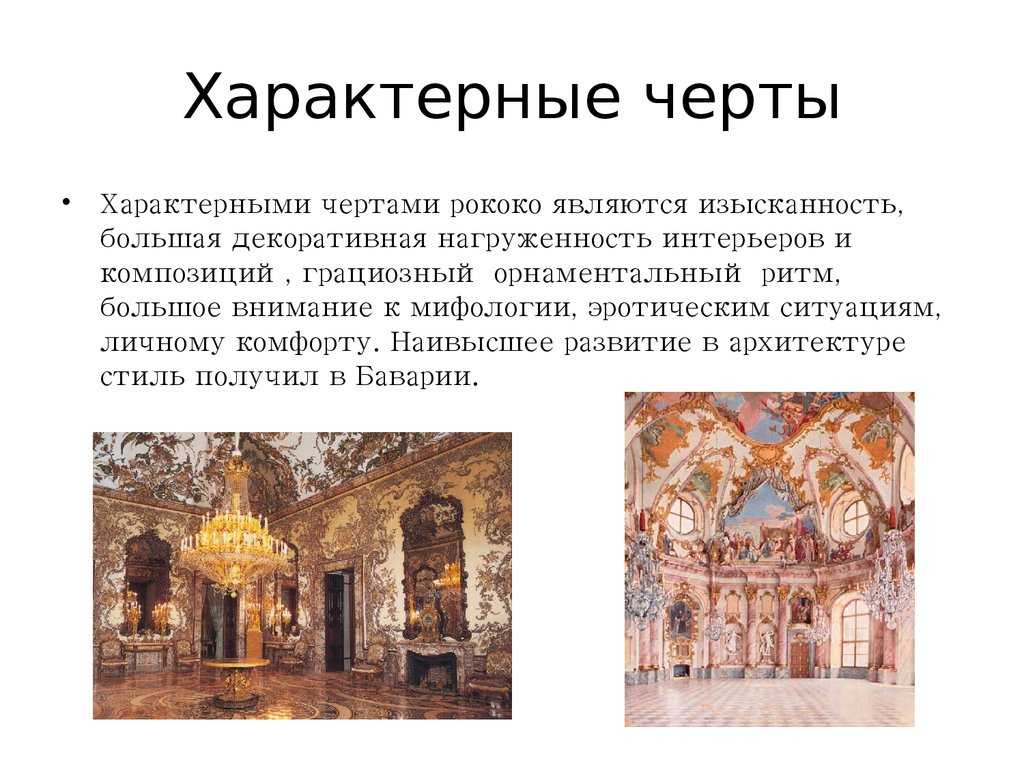
Проникновенные лирические стихи писали крупнейшие французские драматурги XVII века Корнель, Расин, Мольер Созданные ими театральные произведения принадлежат к высочайшим достижениям поэтического искусства, но рассмотрение драматургии этих великих мастеров не входит в нашу задачу. Вершиной же французской поэзии этого времени, в более узком и специфическом смысле этого слова, следует считать творчество Буало и Лафонтена.
Молодой Буало совсем не похож на того Буало-олимпийца, рассудочного и величественного законодателя французской литературы, образ которого запечатлела легенда, сложившаяся постепенно вокруг имени писателя после его смерти. В конце 50-х — начале 60-х годов это темпераментный и задорный публицист и поэт, охваченный духом фрондерства, непочтительно относящийся к господствующим авторитетам.
Самым значительным произведением Буало на первом этапе его литературной деятельности являются написанные им между 1657 и 1668 годами девять сатир. Вдохновляясь произведениями Ювенала, Буало в то же самое время насыщает свои сатиры животрепещущим и злободневным жизненным материалом. В своих ранних сатирах Буало обрушивается с резкими нападками на пороки дворянства, клеймит богачей, которые высасывают все живые соки из страны, позволяет себе довольно резкие выпады против самого Кольбера. Наряду с общественно-этической проблематикой ведущее место в сатирах занимает литературная критика: нападки на прециозных поэтов и на официозных литераторов, пользующихся покровительством государственной власти. В своих сатирах Буало, следуя за Ренье и писателями-вольнодумцами первой половины XVII века, проявляет живой интерес к изображению быта простого человека. Знаменательна в этом отношении шестая сатира, представляющая собой меткое описание различных злоключений, жертвой которых из-за неустроенности столичной жизни становится скромный разночинец, обитатель Парижа, города резких социальных контрастов.
В своих ранних сатирах Буало обрушивается с резкими нападками на пороки дворянства, клеймит богачей, которые высасывают все живые соки из страны, позволяет себе довольно резкие выпады против самого Кольбера. Наряду с общественно-этической проблематикой ведущее место в сатирах занимает литературная критика: нападки на прециозных поэтов и на официозных литераторов, пользующихся покровительством государственной власти. В своих сатирах Буало, следуя за Ренье и писателями-вольнодумцами первой половины XVII века, проявляет живой интерес к изображению быта простого человека. Знаменательна в этом отношении шестая сатира, представляющая собой меткое описание различных злоключений, жертвой которых из-за неустроенности столичной жизни становится скромный разночинец, обитатель Парижа, города резких социальных контрастов.
Произведения молодого Буало, примыкая к сатирическим традициям французской литературы первой половины XVII века, вместе с тем заключают в себе много принципиально новых черт. Буало была чужда унаследованная от Возрождения громогласная раскатистость смеха М. Ренье его склонность к эпическому размаху и причудливым гротескным преувеличениям. С другой стороны, Буало стремился освободить сатиру от того налета грубоватой натуралистичности и прямолинейной буффонады, который был присущ бурлескной поэзии. Сатиры Буало дышат темпераментом, в них ярко проявляется живописное мастерство поэта, его умение находить выразительные детали, в них доминирует стремление к бытовой достоверности и точности, иронический характер смеха, безупречная отточенность и изящество литературного слога.
Буало была чужда унаследованная от Возрождения громогласная раскатистость смеха М. Ренье его склонность к эпическому размаху и причудливым гротескным преувеличениям. С другой стороны, Буало стремился освободить сатиру от того налета грубоватой натуралистичности и прямолинейной буффонады, который был присущ бурлескной поэзии. Сатиры Буало дышат темпераментом, в них ярко проявляется живописное мастерство поэта, его умение находить выразительные детали, в них доминирует стремление к бытовой достоверности и точности, иронический характер смеха, безупречная отточенность и изящество литературного слога.
Новый этап в литературной деятельности Буало начинается с 1668 года. И в ироикомической поэме «Налой», этой филигранной по форме, но лишенной значительного идейного содержания поэтической шутке, и в своих «Посланиях» Буало выступает прежде всего как изощренный мастер поэтического воспроизведения внешнего мира. Особенно ярко художественный талант Буало выявляется здесь в жанровых и пейзажных зарисовках.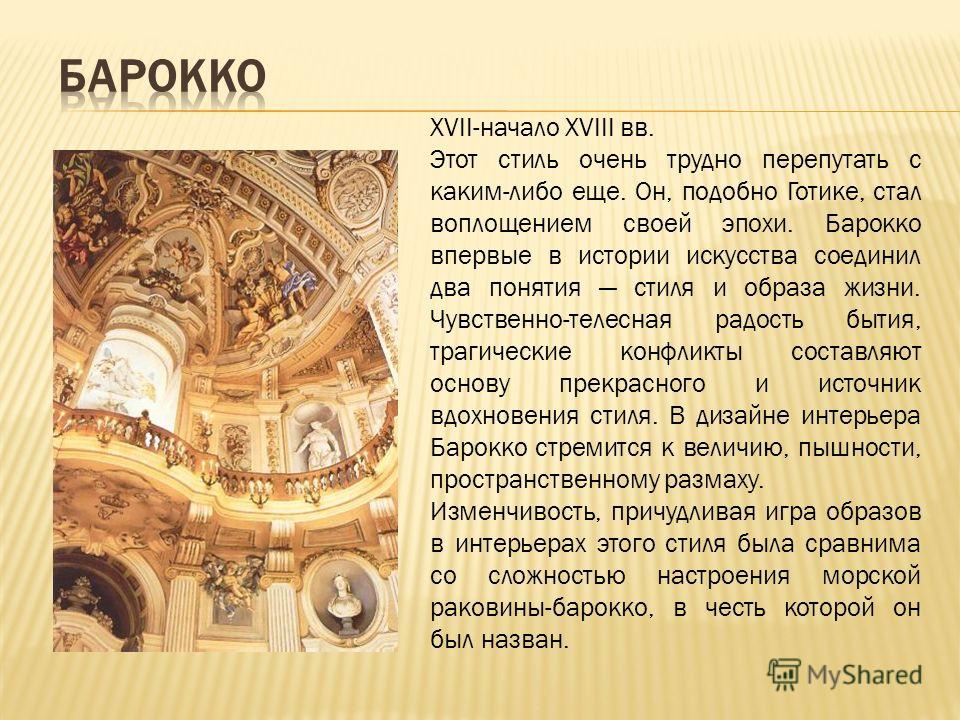 Наиболее выдающиеся из произведений, созданных Буало в этот период, бесспорно, его знаменитый стихотворный трактат «Поэтическое искусство». Сила его не в оригинальности каких-то особенных теоретических откровений автора. Значение «Поэтического искусства» в ином. В нем впервые во французской литературе XVII столетия теоретические принципы классицизма систематически сведены воедино и обобщены всесторонне и полно. К тому же нормы и каноны классицизма изложены в «Поэтическом искусстве» в доходчивой и живой форме. Поэма Буало отточена, совершенна по форме. Она написана чеканным языком, изобилует блестящими афоризмами, меткими и остроумными, легко запоминающимися формулами, крылатыми словечками, прочно вошедшими в обиход французской литературной речи.
Наиболее выдающиеся из произведений, созданных Буало в этот период, бесспорно, его знаменитый стихотворный трактат «Поэтическое искусство». Сила его не в оригинальности каких-то особенных теоретических откровений автора. Значение «Поэтического искусства» в ином. В нем впервые во французской литературе XVII столетия теоретические принципы классицизма систематически сведены воедино и обобщены всесторонне и полно. К тому же нормы и каноны классицизма изложены в «Поэтическом искусстве» в доходчивой и живой форме. Поэма Буало отточена, совершенна по форме. Она написана чеканным языком, изобилует блестящими афоризмами, меткими и остроумными, легко запоминающимися формулами, крылатыми словечками, прочно вошедшими в обиход французской литературной речи.
Не случайно Буало, помимо всего прочего, блестящий мастер эпиграммы. Семнадцатый век вообще время взлета и всесилия эпиграммы, причем не только во Франции. Если французскую классицистическую эпиграмму отличают изящество и тонкое остроумие концовки, то, скажем, в эпиграммах выдающегося немецкого поэта Логау глубоки и парадоксальные мысли облекаются чаще всего в предельно сжатую форму сентенций или поговорок.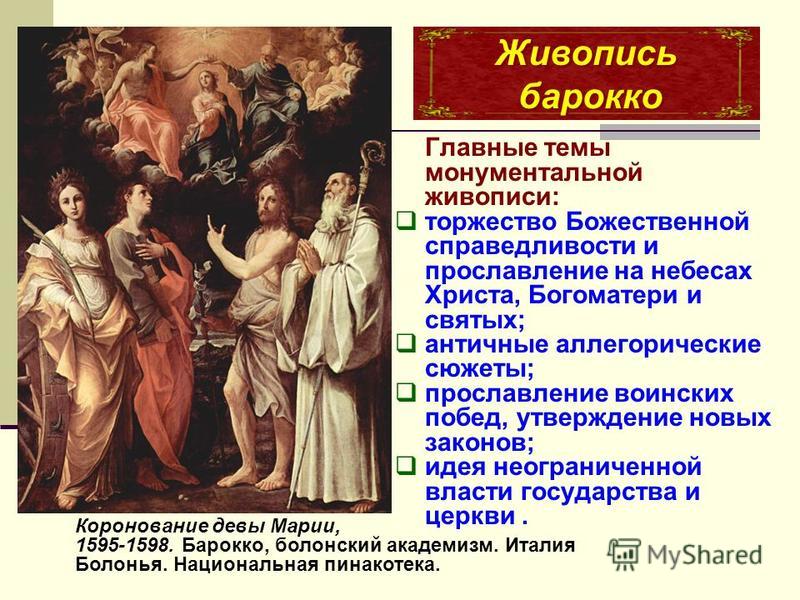
Крупнейший французский поэт XVII века — Жан де Лафонтен. Творческое наследие Лафонтена многогранно. В своих жизнелюбивых, задорных «Сказках» Лафонтен предстает как выдающийся сатирик, вольнодумный мыслитель, продолжатель ренессансных традиций в литературе. «Сказки» Лафонтена не только свидетельствовали о тонкой наблюдательности и блестящем повествовательном стилистическом мастерстве писателя. Они подрывали уважение к церкви, порождали сомнения в безгрешности ее служителей, в святости сословных привилегий, в нерушимости патриархальных добродетелей. «Сказки» Лафонтена, пусть в игривой и фривольной форме, говорили о равных правах людей на наслаждение земными благами, независимо от их богатства и сословного положения.
Славой одного из величайших писателей Франции Лафонтен обязан прежде всего «Басням». Именно в «Баснях» особенно наглядно раскрылись отличительные черты художественного мироощущения поэта, многие из которых роднят его с Мольером и определяют его своеобразное место в классицизме: интерес к низшим, подчиненным с точки зрения эстетики классицизма жанрам, стремление опереться на народную мудрость и традиции фольклора, глубоко национальный характер творчества, сатирический склад ума, склонность к иносказанию и иронической усмешке.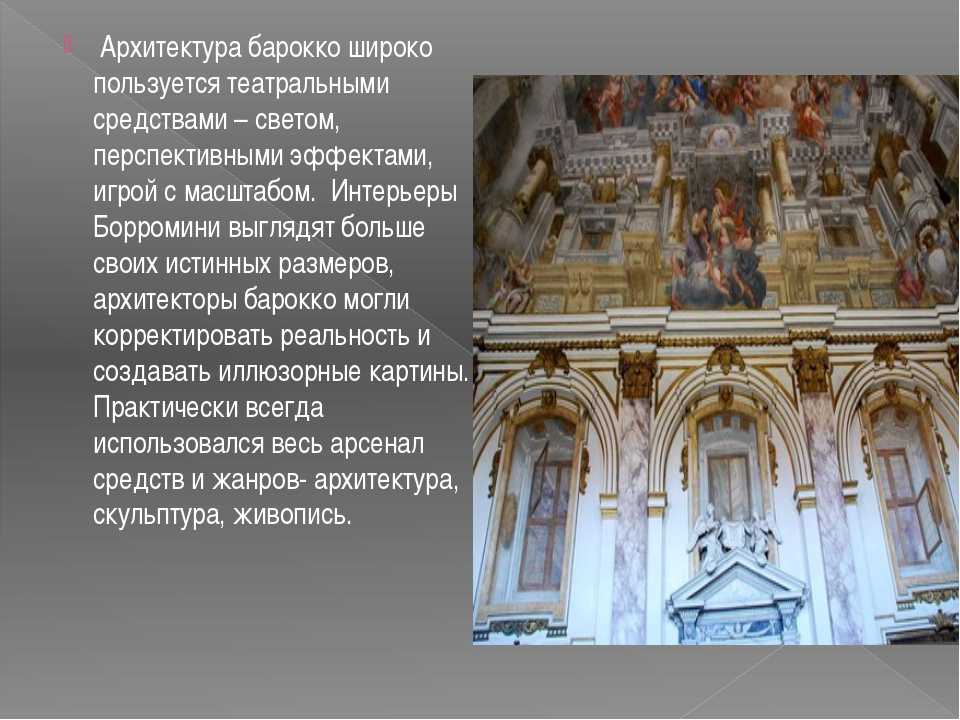
«Басни» Лафонтена отличаются исключительной широтой в охвате современной французской действительности. Вся Франция второй половины XVII века, от крестьянина-бедняка, добывающего себе пропитание сбором хвороста, и кончая монархом и его аристократическим окружением, проходит перед глазами читателя в произведениях Лафонтена. При этом с годами сатира Лафонтена, направленная против сильных мира сего, приобретает все большую эмоциональность, социальную остроту, реалистическую конкретность. Повествование Лафонтена-баснописца отнюдь не безлично. Оно пронизано переживаниями и настроениями самого автора. В баснях Лафонтена с особой силой раскрылось замечательное лирическое дарование писателя. Виртуозно реализуя ритмические возможности вольного стиха, Лафонтен передает в своих баснях многообразнеишую гамму переживаний, начиная от язвительной иронии и кончая высоким гражданственным пафосом.
Таковы некоторые основные ориентиры, призванные облегчить любителям словесности знакомство с сокровищницей европейской поэзии XVII века.
| Культурология На XVIII в. приходится возникновения новых
художественных направлений — рококо и романтизма и утверждение классицизма. Они
сказались на разных жанрах искусства, но прежде всего нашли свое воплощение в
архитектуре и изобразительном искусстве. Стиль рококо был продолжением стиля
барокко в искусстве. Возник в начале XVIII в. во Франции и царил до середины
века, но его влияние на европейскую культуру ощущался вплоть до конца XVIII
ст. Такое название он получил за манерность, легкость, декоративность, вычурность
и фантастичность орнаментальных мотивов, причудливость форм. Этот стиль был
довольно популярным в феодально-аристократических кругах французского двора, хотя
стилистически близкий к барокко. Некоторые искусствоведы считают, что рококо —
это ответвление позднего барокко, что потерял монументальность большого стиля.
Однако рококо сложился в собственную законченную стилевую систему, которая частично
последовала барокко, но больше видоизменила его. Рококо мало преимущественно светский характер. Оно более камерное и интимное, искреннее, связано с бытом человека. Наибольшего своего развития оно вступило в области прикладного искусства. Мир миниатюрных форм рококо нашел свой крупнейший проявление в посуде, бронзе, мебели, фарфора, обоях, оформлении интерьера. Искусство рококо построено на асимметрии, игре воображения. Сюжетная тематика часто эротическая, любовная. Исторические, мифологические, библейские или жанровые мотивы подано через призму любви. Однако за внешней легкомыслием этого стиля чувствуется тяга к сентиментализма, изображения тонких чувств, интерес к личности и поиска жизни. Живопись. Основоположником рококо в живописи
можно считать выдающегося французского художника, рисовальщика, графика, одного из
родоначальников бытового жанра — Жанна Антуана Ватто (1684-1721). Происходил
художник из простой среды. За несколько лет обучения у местного
художника Жерена Ватто, обогнав в мастерстве своего наставника, оставляет
его. Картина «Отплытие на остров Цитеру» (1717) — первая из серии «галантных празднеств», отражающие основные черты манеры художника с ее нарочитой театральностью. Сам живописец принимал участие в театральной жизни своего времени и частично в маскарадах. Чувствителен к нрава и образа жизни современников, создал свой шедевр — большое полотно «Лавка Жерсена». Основной темой полотен становятся «галантные
празднование», мир беззаботной жизни, которые изображаются с изысканной грацией.
(«Венецианское праздник», «Отдых на охоте», «Радость жизни», «Разговор в
парка»). Он обращается также и к сюжетов, взятых из простого крестьянского
жизнь, которую хорошо знал. Ватто не любил заказных сюжетов, всегда писал то, что ему нравилось. У него всегда были поклонники среди всех слоев французского общества XVIII ст. В последних работах — «Портрет скульптора Патера», «Лавка Жерсена» — раскрылся новый Ватто — художник-реалист. Задуманная им как обычная вывеска для скамейки картина «Великий монарх» стала реальным произведением о мире, в котором он жил, — мир искусства, полотен и зрителей. Ватто — это сплав бытового и декоративного театрального в интимных, лирических фантазиях, но также и характер рокайльного стиля. Истинным представителем французского рококо
считают Франсуа Буше (1703 — 1770). Учился у своего отца Никола и в Ватто. едет
в Ітаію и знакомится с итальянским искусством. Возвращается во Францию и пишет
картины на мифологические и эротические темы («Геркулес и Омфала»), которые прославили
его как художника любителя рискованных сюжетов. Наряду с этим писал портреты,
среди которых широко известный «Мадам де Помпадур». По заказу Королевского
двора выполнил четыре аллегорических композиции для Версаля. Художник широкого творческого диапазона, он писал картины, делал панно, театральные декорации, книжные иллюстрации, рисунки вееров, эскизы костюмов и т.д. Темы произведений разнообразные — религиозные, мифологические, пейзажи. Продолжателем творчества Ватто, Буше, представителем стиля рококо был выдающийся французский живописец и график, а также мастер портрета — Жан Оноре Фрагонар (1732-1806). На его формирование повлиял живопись Шардена и Буше, свидетельством этого являются работы, выполненные с большой легкостью («Клетка»,»Радость материнства»). Некоторое время жил в Италии, изучал большие барочные
живописные циклы, делал эскизы пейзажей, которые позже использовал для фона в
своих работах. Во время пребывания в Голландии испытывает влияние Рембрандта и
Франса Гальса. Вернувшись в Париж, начинает работу над серией полотен на
чувственные и галантные сюжеты, а также над циклом «Пробуждение любви в сердце
девушки», выполненным на заказ Дюбарри для павильона Лувесьєн. Он обогащает общую тенденцию введением эротических сцен, реалистичной манере изображения, точностью деталей, богатством фантазий («Поцелуй украдкой», «Счастливые возможности качелей»). Жесткая унификация и регламентация канонов живописи Франции второй половины XVII в. привели к образованию определенного художественного вакуума. Не было ни одного выдающегося художника, который достиг бы уровня Н. Пуссена. Однако с середины XVIII в. европейское искусство вновь обратилось до классики, но на новой идейной основе. Ею стала идеология Просвещения. На волне общественного подъема и формирования
нации во Франции XVII в. при королевском дворе возник новый стиль — классицизм
и оттуда распространился среди аристократических кругов Европы. В XVIII в. классицизм
объявил войну пышном барокко и рококо в литературе и искусстве. Классицизм — направление в европейской литературе и
искусстве XVII — начала XVIII в., суть которого заключалась в подражании искусства
и литературы древней Греции и Рима в соблюдении системы строгих правил
воспроизведение действительности. Этот стиль последовательно развивал не только традиции
античности, но и эпохи Возрождения. Его идейным основанием стал рационализм,
что опирался на философскую систему Рене Декарта. Предметом искусства в класицизмі
провозглашалось только прекрасное, возвышенное. В произведениях искусства звучат идеи
свободы, утверждаются права человека. Воспевая героические идеалы, искусство классицизма совсем не интересовалось современностью, реальными людьми и их бытом, а тяготело к идеализированных абстрактных образов, основываясь на изучении античной поэтики и искусства, которые содержат в себе как бы абсолютную эстетическую норму. Теоретики классицизма создали систему классических канонов для театра, литературы, живописи. Классицизм ориентирует на строгую иерархию жанров
(высоких и второстепенных) и не допускает их смешения. Подобные установки
стимулировали создание специальных социальных институтов для контроля за
художественно-эстетическим жизнью общества: Академий литературы, живописи и скульптуры,
архитектуры, института критики, художественных выставок. Столь тесная связь эстетических и художественных канонов с соціальнозначущими нормами общественного устройства нередко збіднював художественный смысл, но в то же время, классицизм укрощал разрушительную стихию гуманистического индивидуализма с его этикой утилитаризма и гедонизма. Классицизм нового типа, отличный от ренессансного, — классицизм суток абсолютных монархий или же XVII-XVIII ст. — заявляет о себе уже в начале XVII ст. Известный английский писатель Джон Мильтон (1608-1674)
обращается к жанру трагедии. Он впервые создал на основе эстетики классицизма
трагедию качественно нового содержания — «Самсон-борец» (1671). Мильтон решительно выступает
протни пуританского осуждения театра. В предисловии к «Самсона» он защищает
трагедию от неуважения, от осуждения. Это первая класицистська трагедия в европейской
литературе, она пронизана революционным оптимизмом и опережает некоторые черты
позже просветительского классицизма. Его знаменитым поэмам «Потерянный рай»
и «Возвращенный рай» (1667), присущи элементы и барокко и классицизма. Французский драматург Жан Расин (1639-1699) писал трагедии на сюжеты греческой, римской, восточной и библейской истории — «Британик» (1669), «Береника» (1670), «Митридат» (1673), «Федра» (1677), но они есть наглядным отображением тогдашней французской действительности. Классицизм принес свои самые значительные плоды в культуре Франции и всей Европы, которая начала активно подражать французский опыт. Предвестием французского классицизма в изобразительном искусстве был Жорж де Латур (1593-1652). Его произведения, особенно живой и яркий портрет «Маркизы де Помпадур», пользуются большим успехом в знати и при дворе. Произведениям Латура присуща точность, выразительность, четкость композиции, безупречная целостность силуэта, статика. Образы несут черты вечного, сверхвысокого («Рождество», «Святой Иосиф-стельмах»). Основателем класицистичного направления в живописи
был французский художник-живописец, автор картин на исторические, религиозные и
мифологические темы, а также пейзажей — Никола Пуссен ((1594-1665). Получив в Руане знания и навыки по живописи от В. Элле и Ж. Лаллемана, которые не удовлетворяли его, Никола отправляется в Париж. Пуссен учится везде, где бы он не находился. Изучает историю, историю искусств, анатомию, латынь, Священное Писание и т.д. Много рисует, делает зарисовки, иллюстрации, пишет картины «Битва», «Избиение младенцев», «Видение Св. Иакова». Серия «Триумфов» и «Вакханалій», «Луна и Нарцисс», «Спящая Венера», «Ринальдо и Армида», написанные под влиянием Тициана. Для воплощения своих идеалов Пуссен создает жесткую систему, в основе которой лежало рациональное начало и идея порядке. Тридцатые годы приносят художнику признание как
класицисту. Это — «Разруха Єрусалима», «Похищение сабінянок», «Переход через
Красное море», «Аллегории человеческой жизни», «Воспитание Юпитера». Темы его
полотен: история, мифология «Пейзаж с Геркулесом и Какусом», библейские сюжеты
«Триумф Давида», «Снятие с креста», «Моисей точит воду из скалы». Творчество мастера считалась вершиной
французского классицизма и в будущем повлияла на многих художников. Однако
искусство классицизма выработало свои каноны, основанные на художественно-эстетических
традициях Н. Пуссена, требовало их обязательного соблюдения. Поэтому уровень
искусства классицизма под влиянием жесткой системы требований начал снижаться,
поскольку творческий процесс превратился в простое подражание. Этому искусству
отвечает и определенная язык: мера и порядок, композиционная уравновешенность, плавный,
четкий линейный ритм прекрасно передают суровую величество идей и характеров.
Лучше всего в Пуссена — его пейзажи. Пуссен — создатель классического идеального
пейзажа в его героическом виде. Четыре пейзажи, написанные для герцога
Ришелье, вместе творческий путь художника. В серии «Времена года» художник будто
проходит все возрастные периоды человека на основе библейских сцен. Искусство Пуссена — это искусство значительной мысли и яркого духа. Художник выбирает такие сюжеты, которые предоставляют ему возможность показать героические и примерные характеры. Он не имел много учеников, однако ему удалось создать собственную школу живописи. Представителем классицизма в живописи был Клод Лоррен (1600-1662). Главная тема его произведений — это величие природы. Он рисовал море, античные руины, пейзажи с фигурами людей. Клод, как и Пуссен, изобразил четыре времени года. Это был непревзойденный колорист своего времени. Продолжателем классицизма был знаменитый французский художник Жак Луи Давид (1748-1825). Судьба художника, которого современники считали первым художником Франции, тесно связана с большими событиями, что переживала в ту эпоху его родная родина — Французская революция и правления Наполеона Бона-парта. Родные Луи в будущем хотели видеть
коммерсантом. Однако с раннего детства он не хотел ничему учиться, кроме
живописи. Будучи от природы настойчивым и упрямым, юноша добивается разрешения
посещать академию Сен-Люк, где учится рисовать с натуры, а с 1764 г. Первая работа, написанная Луи Давидом, «Бой Марса с Мінервою», принесла ему большой успех. В 1775 г. Давид вместе с В’єном отправляется в Италию, где изучает шедевры мирового искусства. 1780 г. возвращается в Париж и пишет картины: «Велизарий», «Портрет графа Потоцкого», «Святым Годом». В последующие годы художник много пишет, создает такие полотна, как «Андромаха», «Смерть Сократа», «Парис и Елена», «Вид Люксембургского сада», «Саби-нянки». Луи Давид тесно связывает свою творческую жизнь с политическим. Он становится активным участником событий Французской революции, членом Якобинского клуба, его виби-собирают в национальный комитет. 1793 г. вместе с другими депутатами Конвента Луи Давид проголосовал за смерть короля Людовика, которого позже казнили. Откликом на эти события стали работы «Брут», «Клятва в зале для игры в мяч», «Ле Пеллетье», «Смерть Марата». Последний период жизни Давида был непростым. Для современников в картинах Жака Луи Давида звучали мнения будущего, а для потомков этот художник стал единственным мастером, что донес до них дух своей суровой эпохи. Новые большие задачи, поиски героических образов, которые воплощали гражданские доблести, были решены художниками другого типа, мастерами, которые создали свой новый художественный стиль. Это были Жак Луи Давид в живописи и Жан Антуан Гудон — в скульптуре. Формирование мастерства выдающегося французского
скульптора, одного из крупнейших мастеров скульптурного портрета, создание
галерею ярких образов представителей эпохи Просвещения — Гудона
(1741-1828). Гудон выполнил несколько скульптур на мифологические сюжеты. Кульминацией творчества мастера в этом плане было создание статуи Дианы. Французская революция лишила Гудона не только основной массы заказчиков, но и творческих сил. С середины 1790-х гг. его искусство стало резко падать. Он продолжает работать, но в значительно меньших объемах, выполняет портреты членов императорской семьи, маршалов и генералов. Последним произведением старого мастера был бюст Александра И, выставлен в Салоне в 1814 г. Гудон оставил чрезвычайно большую творческую наследство: портреты женщин и детей, ученых и философов, людей искусства и выдающихся государственных деятелей. К выдающихся художников Франции в XVIII ст.
принадлежит яркий талант скульптора-монументалиста, мастера малой пластики и
декоратора, автора композиций в стиле рококо и раннего классицизма — Фальконе
Этьен Морис (1716-1791). Многолетнее настойчивое обучение и труд, помноженные на природное дарование, принесли будущем мастеру большие результаты. Первая самостоятельная работа Фальконе «Милон Кротонський» сделала его имя популярным во французских художественных кругах. В 1753 г. Фальконе исполняет ансамбль из двух фигур «Благовещение» и «Распятие» для церкви Св. Роха. Покровительницей и основным заказчиком стала маркиза Помпадур — фаворитка Людовика XV. Для отделки ее дворца он создал большое количество работ, а также мраморную фигуру «Музыка». Его профессиональный уровень подтверждают скульптура «Садовница» и барельеф «Охота на уток». Принесли успех скульптору прекрасные творения малой пластики «Купальщица», «Амур» и другие. В 1765 г. Фальконе получил через князя Д.
Голицына приглашению Екатерины II создать в Петербурге памятник Петру i. 1766
скульптор с готовым эскизам монумента приехал в Россию. Творческая работа
принесла Фальконе славу гениального скульптора-монументалиста. После отливки
конной скульптуры в 1778 г. Самые плодотворные годы жизни и триумф творческого гения французский скульптор посвятил России. В архитектуре ярчайшим образцом классицизма остается ансамбль Версальского дворца, построенный в 1668-1689 гг. по приказу французского короля Людовика XIV. Архитекторы этой достопримечательности — Жюль Ардуэн-Мансар и мастер садово-паркового искусства Андре Ленотр. Основные сооружения Версаля напоминали своими формами древнеримские здания с огромными колоннами, портиками, скульптурами. Версальский парк, как и весь ансамбль, — это программный произведение. Это регулярный парк: в нем все выверено, розкреслено на аллее, определены места для фонтанов и скульптур. Общая его длина — около трех километров. В стиле классицизма был построен Дом и Собор Инвалидов, Вандомську площадь и площадь Побед в Париже, восстанавливаются работы в Лувре. В голландской архитектуре, начиная с
середины XVII в. В XVIII в. в европейском искусстве зарождается неоклассицизм. Неоклассицизм — течение в литературе и искусстве XVIII — начала XX вв., что базировалась на стилизации внешних форм античного искусства, итальянского Возрождения и частично классицизма. В искусстве неоклассицизм связан с
английским живописцем, графиком и теоретиком искусства Уильямом Хогартом
(1679-1764). Учился в художественной школе, Академии Вандербенка. В 1720-х гг. Хогарт заявил о себе как иллюстратор. Иллюстрировал произведения Шекспира, Мильтона, Свифта, Сервантеса. Когда впервые были написаны живописные произведения, неизвестно. Но уже в 1728-1729 гг. выступил как опытный живописец («Политик», «Прихожане, которые спят», «Женщина, что указывает на отца своего ребенка» и др.). Часто живописные работы воспроизводил в гравюрах.
Размножены в сериях эстампов, произведения Хогарта имели большой успех. Он создал
циклы: «Карьера проститутки», «Модный брак», «Карьера мота» из шести, восьми
композиций, связанных общим сюжетом, которые высмеивали пороки общества.
Приемы Хогарта сценические. Он и чувствовал себя драматургом: составлял словесные
комментарии (ремарки) в своих картин и гравюр, характеризовал героев и даже
давал им имена. Хогарт писал не только быт, но и был прекрасным портретистом
(«Портрет миссис Элизабет Солтер», «Автопортрет с собакой», «Портрет Мэри
Эдвардс», «Портрет Л. Уильям Хогарт оставил несколько сотен произведений живописи и графики. Это был единственный художник английского Просвещения и первый живописец-просветитель в Европе. Одним из величайших английских художников второй половины XVIII в. был Джошуа Рейнольде (1723-1792). Это широко образованный человек, хорошо знакомый с искусством старых мастеров, в частности итальянских живописцев эпохи Возрождения и более позднего времени. Среди колоссального количества портретов (свыше
две тысячи) Рейнольдса, которые знакомят нас с английским интеллигенцией того
времени, представителями национальной культуры — писателями, учеными, актерами,
а также государственными деятелями, военными, знатью — «Портрет писателя Стерна»,
«Портрет Нелли о’брайен», «Портрет Ричарда Берка», «Портрет графа Фредерика
Бейсборо», «Портрет Пенелопы Бусбі», «Портрет адмирала Хітфілда», «Портрет
герцогини Девонширської», «Портрет мальчика» и другие. Широкая эрудиция Джошуа Рейнольдса, его большие знания в области техники жи-вопису, а также энергичный и общительный характер позволили художнику стать выдающимся деятелем английского художественного жизни своего времени. Он прославился не только как великий художник, но и как теоретик живописи, выступал со статьями о искусство, был организатором и первым президентом лондонской Академии искусств. Творчество и просветительская деятельность Рейнольдса повлияли на английскую школу живописи конца XVIII — начала XIX в. В искусстве этого направления преобладали простые,
лаконичные, правильные формы, прослеживалась связь с реализмом, что сильнее всего
оказалось в творчестве французского живописца, мастера жанровых картин,
натюрмортов и портретов, автора свыше 1000 полотен Жана — Батиста Симеона
Шардена (1699-1779). Свидетель расцвета французского Просвещения, современник
выдающихся мыслителей — Вольтера, Же. Же. Руссо, Ш. Монтескье и Д. Дидро. Образование
сначала получил в художника Пьера Жака, а впоследствии у известного живописца и
скульптора Ноэля Никогда Куапеля, который высоко оценил способности ученика. В 1724 г. Шарден получил первый заказ — написать вывеску для дома врача с изображением хирургических инструментов. Эта работа свидетельствует о таланте художника-живописца к жанрово-бытовых сцен. Через четыре года художник организовал первую персональную выставку, после которой приходит признание. В 1730-1740-х годах художник создал свои лучшие жанровые сцены («Прачки», «Возвращение с рынка», «мать», Трудолюбива «Молитва перед обедом», «Чаепитие», «Помощник повара» и др.). С любовью и теплом Шарден пишет детей: Мальчик « с волчком», «Маленькая учительница», «Девочка с воланом», «Мальчик, пускающий мыльные пузыри», «Картонный домик» и др. Большую часть среди живописных работ художника занимают натюрморты: «Медный бак», «Апельсины, серебряный кубок и другие предметы», «Виноград, гранаты, кофеварка, чем и бокалы», «Натюрморт с дикой уткой», «Корзину персиков и орехи», «Люлька», «Атрибуты музыки», «Атрибуты искусств» и другие. Шарден исполнил ряд портретов в технике
пастели: «Портрет жены», «Автопортрет в очках», «Автопортрет с зеленым
козырьком». Несмотря на то, что великий живописец оставил огромное наследие, сразу после смерти был забыт. Лишь в середине XIX в. французские писатели братья Эдмон и Жюль Гонкур заново открыли миру красоту и величие полотен Шардена. Одним из величайших портретистов столетия был французский художник-пастеліст Морис Кантен де Латур (1704-1788). В ранних работах Латура построение композиции разнообразная. Например, портрет своего товарища аббата Же. Же. Юбера художник решает в жанровом стиле. Портреты-картины дают возможность полнее и Латуру глубже охарактеризовать свои модели. Латур непрерывно выставляется в луврських Салонах. Пишет большие репрезентативные композиции, но в Салонах представляет и небольшие камерные и интимные портреты (дофіни Марии Жозефи Саксонской, скульптора Же. Б. Лемуана, ученого Дюкло, маршала Морица Саксонского, королевы Марии Лещинской, актрис Жустини Фавар и Марианны Данджевіль и др.). Латур в основном работал в технике пастели.
Самый яркий период творчества художника приходится на середину XVIII ст. В стиле неоклассицизма построена площадь Согласия в Париже и Малый Тріанон в Версале архитектора Ж. -А. Габриэля (1698-1782). Наибольшей сооружением неоклассицизма стала церковь св. Женев’єви в Париже, в которую годы Французской революции переименовали в Пантеон. Сюда перенесены останки выдающихся людей Франции, в том числе и ее строителя — Же. -С. Суфло (1713-1780). В России неоклассицизм не развился в стилевую систему. Черты рококо оригинально переплелись с классицизмом. Российский классицизм стал одним из самобытных и ярких страниц европейского искусства. Появившись в XVIII ст., он вступил в довершение XIX ст. Выдающимися представителями русского классицизма XVIII в. в архитектуре были В. Баженов, М. Казаков, в скульптуре — М. Козловский, Ф. Шубин, Ф. Щедрин, Е. Фальконе и др., в живописи — И. Никитин, Ф. Рокотов, Д. Левицкий, В. Боровиковский и др. Романтизм как направление в европейской литературе
и искусстве зародился в Германии в XVIII — начале XIX в. на основе
осмысление уроков Французской революции. Живопись XVIII в. уступал по драматизму и масштабностью живописи XVII ст. Наибольшие достижения живописи связанные с творчеством вышеупомянутых художников: Ж. -А. Ватто, Ф. Буше, Ж. -О. Франагора Ш. -Л. Давида во Франции, Хогарта и Д. Рейнольдса в Англии. Романтизм является характерным для творчества испанского гения Франсиско Хосе де Гойи (1746-1828). Он стал не только одним из величайших живописцев и графиков Испании, но и существенно повлиял на все европейское искусство XIX и XX вв. Долгую жизнь Гойи похоже на увлекательный роман.
Приключения и опасные выходки воспалительного молодого испанца: дуэли, любовные
интриги, бродячая жизнь с путешествующей труппой матадоров (тореадоров) и т.д.
Параллельно развивался другой роман — роман его искусства, еще сложнее.
Сложный — потому что его искусство многогранно, принадлежит к разным периодам:
конца XVIII и первой четверти XIX в. и в зрелом периоде отличается сложным
подтекстом, зашифрованной системой аллегорий. Гойя был первым живописцем двора
Карлоса IV, но изображал семью короля («Семейство короля Карлоса IV») со злой
насмешкой; он был придворным художником за Жозефа Бонапарта — ставленника
Наполеона, он создал графическую серию «Ужасы войны» о сопротивлении оккупантам и
потрясая картину «Расстрел повстанцев в ночь на 3 мая 1808 года»; он
клеймил инквизицию, жестоко издевался над предрассудками. В первой половине творческой жизни Гойя занимался только живописью. Он был непревзойденным живописцем, блестящим колористом, пытался подражать Веласкеса. Первое признание ему принесли работы, выполненные в стиле рококо, — картоны для шпалер (то есть тканых картин). Над сериями обоев Гойя работал в 1770-х и 1780-х гг. Он брал для них разнообразные сюжеты: здесь были старцы, стражники, контрабандисты, мотивы маскарада. Став известным и модным придворным живописцем,
Гойя писал очень много портретов, не отказывался и от церковных заказов,
бытовых тем — «Семья герцога Осуни», «Молочница из Бордо». В середине 80-х гг.
Гойя выполнил (пока только для себя) серию рисунков, которые назвал «Капричос»,
то есть капризы, фантазии. В 1799 г. мадридская газета представила коллекцию
гравюр на трудные темы, выгравированных в технике офорта и акватинти. Ему
чудом удалось избежать инквизиции. Таким был последний великий художник Испании и Европы, живой мост с «галантного» XVIII в. в критический XIX век. Литература. Задавала тон новому направлению и
литература. Творчество таких выдающихся писателей эпохи, как Корнель, Расин,
Мольер, подчиняет острым ощущением значимости проблем «человек и общество»,
установкой на гармонию души отдельного человека и окружающей жизнью. В литературе утверждалась иерархия жанров, которые делились на высокие (трагедия, эпопея, ога) и низкий (комедия, сатира, байка). Каждый жанр имел свои каноны и четкие границы, что не допускали их смешивание. Ведущее место в этой иерархии принадлежало трагедии. Трагедии Корнеля та Же. Расина, басни Же. Лафонтена, сатира Н. Буало, комедии Мольера не только пытались решить общественные конфликты в идеальной сфере античности, но и переносили их в зону тогдашних социально-этических, моральных коллизий, что повлекло развитие реализма. Больше всего это касается творчества Мольера, которая объединила различные идейно-художественные течения, определив дальнейшее развитие литературы. Комедии Мольера перестали быть «низким» жанром. Его лучшие пьесы по тематикой, философским, психологическим и моральным звучанием достигли уровня трагедии. С конца XVII в. классицизм вступил в полосу упадка, возродившись в эпоху Просвещения. Английская литература XVIII в. по методами
изображение действительности неоднородна. Одним из самых известных писателей этой эпохи
был англичанин Даниэль Дефо (1660-1731). Яркий публицист, в ряде своих
памфлетов высмеивал дворян за приверженность к титулам. Выдвигал проекты реформ,
которые способствовали бы буржуазном развития Англии. Популярные произведения: «Робинзон Крузо»,
«Молль Флендерс», «История полковника Джека», «Капитан Сінгльтон» принесли
автору мировую славу и признание. Другого английского писателя и политического
деятеля Джонатана Свифта (1667-1745) роман «Путешествия Гулливера» в мире читателя
пользовался неограниченной популярностью. Он сатирически изображал политический и
социальный строй современной ему Англии, политических деятелей. Под видом сказочных
путешествий своего героя он высмеял пороки современного ему английского общества,
чванство, жадность, подозрительность, произвола, несправедливости. В большом
серия памфлетов Свифт показывает ужасные результаты английского господства в
Ирландии. Он был идейным вдохновителем национально-освободительной борьбы в этой
стране в 20-х годах XVIII века. Выдающимся представителем английского реализма XVIII в. был Генри Фільдінг (1707-1754), в произведениях которого подана картина социальных контрастов Англии. Самый яркий в этом плане произведение «История Тома Джонса». Фільдінг критикует не только пережитки феодализма, но и недостатки новой буржуазной цивилизации. Особое место в литературе XVIII в. принадлежит выдающемуся шотландском поэту Роберту Бернсу (1759-1796). Народный поэт и большой гуманист. Он создал произведения, исполненные революционной страстности и гуманистического пафоса, что резко отличает его от большинства представителей английского просветительства. Его творчество получило признание при жизни. В своих стихах он изобразил образы крестьян, выступал против социального и национального гнета — «Был бедный фермер отец мой», «Веселые нищие». Часть его произведений периода Французской буржуазной революции проникнута революционными настроениями — «Дерево свободы», «Честная бедность». В романах Антуана-Франсуа Прево (1697-1763)
бурные человеческие страсти сталкивались с обычными обстоятельствами жизни —
материальными, семейными, через что переживания становились не абстрактными, как в
классических произведениях, а реальными, злободневными. Важную роль в развитии немецкого Просвещения сыграли выдающийся поэт и мыслитель Иоган Вольфганг Гете (1749-1JS32), великий поэт Иоган Фридрих Шиллер (1759-1805), философ и писатель Иоганн Готфрид Гердер (1744-1803), и публицисты Георг Форстер (1754-1794) и Кристиан Шубарт (1739-1791). Немецкие просветители впервые противопоставили литературу, театр, музыку традиционно господствующему изобразительном искусству, рассматривая их как жанры динамического искусства. Они выступали против деспотизма, за справедливость и свободу, воспевали сильных, смелых людей, которым присущи яркие глубокие чувства. Это положение вошло в европейскую эстетическую мысль. Именно такие черты характера свойственны героям
произведений Шиллера — одного из основоположников немецкой классической литературы. Самым выдающимся представителем эпохи
Просвещения в немецкой литературе был Гете. Творчество Гете обнаружила
важнейшие тенденции и противоречия эпохи. Глубоко понял значение
Французской революции. Он, как великий гуманист, верил в творческие возможности
человека, отрицательно относился к любого насилия. Это нашло яркое
отражение в его всемирно известном произведении, драматической поэме «Фауст». Более
полвека Гете работал над этим произведением, вторую часть которого закончил за год
до смерти. В произведении отражено поиски смысла жизни, счастья. Доктор Фауст — герой немецких средневековых легенд и главный герой трагедии Гете — это, прежде всего, человек, вечно недовольная собой и своим окружением, душа мятущаяся, искренняя. В конце трагедии, пережив множество приключений, уже погибая, Фауст приходит к выводу, что смысл жизни, высочайшее наслаждение, счастье заключаются в самоотверженному труду, деятельности и борьбе на пользу народа. В литературе XIX-XX вв. Фауст является символом титанической творческого труда, неутомимого искания истины и борьбы за свободу человеческого духа. По сюжету «Фауста» французский композитор Ш. Гуно (1818-1893) создал одноименную оперу. Появляется целый ряд специальных исторических
трудов просветителей, которые положили начало «философию истории». Качественно новым шагом
в развитии проблемы историзма стала деятельность Иоганна Готфрида Гердера
(1744-1803) — немецкого просветителя, великого исследователя национальных
культур, выдающегося историософа, литературоведа. Исторический прогресс человечества Гердер связывал с развитием культуры, к которой относил язык, искусство, науку, религию, семейные отношения, государственное управление, обычаи и традиции. Он описывает историю и культуру разных народов к XIV в., осуждает претензии со стороны любого народа на избранность, исключительное место во всемирной истории, призывает изучать культуру разных народов. Это мало плодотворний влияние на развитие гуманитарной мысли. Гердер выступил с идеей единства исторического процесса и общественного прогресса для всех обществ и народов, хотя бы как их обычаи были непохожими. За ним, человеческое общество проходит ряд ступеней, где нет высших и низших рас и народов, где каждая культура ценна своим своеобразием и где развитие идет от древних культур Востока, через античную, к средневековья и до нашего времени. За Гердером, вся история народов — это школа соревнования в быстром достижении гуманности. Музыка. Высокая волна общественного движения
ознаменовалась характерными изменениями во всех видах искусства, которое через эпоху
барокко и «старого» классицизма пришло сначала к ряду новых «промежуточных» течений,
а потом к революционному классицизма XVIII ст. Передкласична сутки (так ее называют, поскольку она предшествует венской классике) охватывает почти века — от конца XVII до конца XVIII ст. Это период бурного расцвета всех музыкальных жанров в крупных европейских странах, музыкальная культура которых приобретает все более отчетливые национальных черт. Величайшими представителями передкласичної итальянской музыки были Джованни Баттісту Перголезе (1710-1736), который написал 14 опер, много вокально-инструментальных и камерных произведений; Джованни Паізієлло (1740-1816) — автор «Сивильского цирюльника» и Доменико Чимароза (1749-1801) — автор «Тайного брака». Итальянская передкласична музыка дала богатый
достижения и в области инструментальной, камерной и оркестровой музыки — Антонио
Вивальди (1678-1741), Джузеппе Тартини (1692-1770). Виднейший представитель передкласичної французской музыки — Жан-Филипп Рамо (1683-1764). Прежде чем музыка пришла к обобщающему
стиля венских классиков в лице Гайдна, Моцарта и Бетховена, в XVIII ст.
возникло несколько так или иначе связанных с Просвещением «молодых» стилей, что
формировали вкусы общества, их общая цель — стилевое облегчение, отказ
от религиозной тематики, сложных концепций, декоративной пышностью. Ранним
представителем этой школы, просветительского классицизма XVIII в. с его
общественным пафосом, ге-роїкою, идейно насыщенными образами, был Христоф
Виллибальд Глюк (1714 — 1787). Автор оперной реформы, подготовленной идеями
эстетики Просвещения. Она, по его мнению, должна коснуться, главным
образом, опер-серіа, которые необходимо лишить излишеств и великолепия вокальной
виртуозности, установив при этом соотношение между драматическим действием и
музыкой, слив гармонично воедино слово, музыку и жест. Богатая объему, разнообразная жанрам творчество выдающегося композитора-новатора Франца Йозефа Гайдна (1732-1809), одного из основоположников венской классической школы. Большое историческое значение художника не только в том, что он усовершенствовал и утвердил классический тип симфонии и квартетов, а в том, что он был и основателем классической инструментальной музыки, родоначальником современного оркестра. Его произведения духом, содержанием глубоко народные. Особенно лучшие симфонии и квартеты — то безупречное зеркало культуры конца XVIII ст., когда искусство мало совмещать величие и глубину в приятной, уравновешенный, мягкой художественной форме. П. И. Чайковский сказал, что если бы не было Гайдна, то не было бы ни Моцарта, ни Бетховена, он обессмертил себя усовершенствованием замечательной, идеально разумной формы сонаты и симфонии. Следующий гениальный представитель культуры
эпохи Просвещения — Вольфганг Амадей Моцарт (1756-1791). Богатое творчество Людвига ван Бетховена (1770-1827) очень разнообразно по жанрам и тематике. Это оперы, девять симфоний, тридцать две сонаты для фортепиано, семнадцать струнных квартетов, пять фортепианных концертов, десять сонат для скрипки и фортепиано, концерты для скрипки с оркестром, двадцать три сборники вариаций для фортепиано, многочисленных песен, арий, песенных обработок, ораторий и т.д. В пантеоне бессмертных Бетховен обеспечивает
себе место не салонными пьесами в духе дворцовой благородной традиции XVIII ст. —
неминуемой дани, которую каждый композитор платил своего времени, — а своими большими,
что дожили до наших дней, знаменитыми творениями, которые звучат ежедневно в
многих уголках нашей планеты. Величие композитора в том, что в исключительно богатом образном строе его произведений раскрывается с неповторимой выразительностью глубоко демократический дух и пафос, созвучный не только умонастроям европейской прогрессивной интеллигенции тех времен, но и свободолюбивым разрывом всего человечества. Величие композитора в том, что он самобытен, что своим творчеством пророчествовал пути для будущего развития; что в интонационном отношении его музыка питается соками народных и героїко-закличних песен эпохи, которые творчески осмысливал, а не слепо следовали. То, что он расскажет миру — значительное, новое по звучанием, важное, смелое, глубокое, новаторское по своей форме, — отображает умонастроения современной ему эпохи, поиски европейской художественной мысли и человеческого духа в период формирования романтизма. В сфере музыкальной культуры окончательно воцарилась
опера, которая становится настоящим синтезом искусств (музыка, костюмы, декорации,
бутафория и т.п.). Рядом с оперой развиваются и другие крупные
вокально-инструментальные формы — кантата, инструментальный и сольный концерт. Творческое наследие трех гениальных представителей венской классики постоянно подтверждает свою незыблемую жизнеспособность. Следовательно, европейская культура XVII-XVIII ст., которая развивалась на принципах рационализма и просвещения, выработала новые методы, средства научного познания и освоения окружающей среды, сформировала мировоззрение, свободный от феодальных предрассудков, идейно подготовила революционные сдвиги в Западной Европе, что наиболее полно выразилось в идеалах Французской революции, выработала новые средства художественно-художественного отображения окружающей мира. Назад |
ЛИТЕРАТУРНЫЕ МЕТОДЫ, НАПРАВЛЕНИЯ И ТЕЧЕНИЯ
ЛИТЕРАТУРНЫЕ МЕТОДЫ, НАПРАВЛЕНИЯ И ТЕЧЕНИЯ
БАРОККО (от итал. bаrоссо — причудливый,
странный) — стиль в искусстве и литературе, зародившийся в Италии в конце XVI первой половине XVII вв., в России в
середине XVII — первой половине XVIII вв. Литература барокко отказывается от принципа подражания
действительности, она не воспроизводит ее, а пересоздает по определенным
законам. Для представителей литературного стиля барокко характерен интерес к
усложненной форме. Литература барокко широко
использует символы и аллегории. В эпоху барокко создавались книги-эмблемы,
аллегорические рисунки, скрытый смысл которых раскрывался в сопутствующих им
изречениях и стихотворениях. Писатели провозглашали важнейшим достоинством
произведения его оригинальность, а необходимыми чертами — трудность для
восприятия и возможность различных истолкований. Ярчайшим представителем барокко в русской литературе был
Симеон Полоцкий, отмечается влияние барокко на творчество М. Ломоносова и Г.
Державина.
Литература барокко отказывается от принципа подражания
действительности, она не воспроизводит ее, а пересоздает по определенным
законам. Для представителей литературного стиля барокко характерен интерес к
усложненной форме. Литература барокко широко
использует символы и аллегории. В эпоху барокко создавались книги-эмблемы,
аллегорические рисунки, скрытый смысл которых раскрывался в сопутствующих им
изречениях и стихотворениях. Писатели провозглашали важнейшим достоинством
произведения его оригинальность, а необходимыми чертами — трудность для
восприятия и возможность различных истолкований. Ярчайшим представителем барокко в русской литературе был
Симеон Полоцкий, отмечается влияние барокко на творчество М. Ломоносова и Г.
Державина.
КЛАССИЦИЗМ (от лат. classicus —
образцовый) — художественное направление в искусстве и литературе XVII — начала XIX вв., для которого
характерна высокая гражданская тематика, строгое соблюдение определенных
творческих норм и правил. На Западе классицизм формировался в борьбе с пышным
барокко. Классицизму как определенному
художественному направлению свойственно отражать жизнь в идеальных образах,
тяготеющих ко всеобщей норме, образцу.
Основным конфликтом произведений являлся конфликт между собственническим
чувством и гражданским долгом, В литературе устанавливалась строгая иерархия жанров. Все они делились на высокие (ода, героическая поэма,
трагедия) и низкие (басня, комедия),
при этом представители социальных верхов выступали героями только в произведениях
высоких жанров. Русский классицизм зародился
во второй четверти XVIII в. в творчестве А. Кантемира, В.
Тредиаковского, М. Ломоносова и достиг своего развития во второй половине
столетия в творчестве А. Сумарокова, Д. Фонвизина, М. Хераскова, В. Озерова,
Г. Державина.
На Западе классицизм формировался в борьбе с пышным
барокко. Классицизму как определенному
художественному направлению свойственно отражать жизнь в идеальных образах,
тяготеющих ко всеобщей норме, образцу.
Основным конфликтом произведений являлся конфликт между собственническим
чувством и гражданским долгом, В литературе устанавливалась строгая иерархия жанров. Все они делились на высокие (ода, героическая поэма,
трагедия) и низкие (басня, комедия),
при этом представители социальных верхов выступали героями только в произведениях
высоких жанров. Русский классицизм зародился
во второй четверти XVIII в. в творчестве А. Кантемира, В.
Тредиаковского, М. Ломоносова и достиг своего развития во второй половине
столетия в творчестве А. Сумарокова, Д. Фонвизина, М. Хераскова, В. Озерова,
Г. Державина.
СЕНТИМЕНТАЛИЗМ (от франц. sentimentalisme, от англ. sentimental — чувствительный) — направление
в литературе и искусстве второй половины XVIII в. Доминантой человеческой природы сентиментализм объявил человеческое
чувство, а не разум. Герой в сентиментализме
крайне индивидуализирован, у него богатый духовный мир и демократические
взгляды на окружающий мир. Сентиментализму чужда противоречивость настроений,
импульсивность душевных порывов. Условием формирования идеальной личности
считается не просветительство и переустройство мира, а высвобождение
свойственных человеку чувств и их совершенствование. В России представителями сентиментализма были М. Муравьев,
И. Дмитриев, Н. Львов, молодой В. Жуковский, Н. Карамзин («Бедная
Лиза»).
Доминантой человеческой природы сентиментализм объявил человеческое
чувство, а не разум. Герой в сентиментализме
крайне индивидуализирован, у него богатый духовный мир и демократические
взгляды на окружающий мир. Сентиментализму чужда противоречивость настроений,
импульсивность душевных порывов. Условием формирования идеальной личности
считается не просветительство и переустройство мира, а высвобождение
свойственных человеку чувств и их совершенствование. В России представителями сентиментализма были М. Муравьев,
И. Дмитриев, Н. Львов, молодой В. Жуковский, Н. Карамзин («Бедная
Лиза»).
РОМАНТИЗМ (от франц. romantique) — крупнейшее направление в литературе конца XVIII — начала XIX вв., противопоставлявшее
себя классицизму. Исторической почвой для
развития романтизма в Европе стала Великая французская революция, в России
толчком для появления романтизма стала Отечественная война 1812 и восстание декабристов
1825. Реальность истории оказалась неподвластной «разуму», полной
тайн и непредвиденностей, а современное
мироустройство — враждебным природе человека и его личной свободе. Специфику
творческого метода романтизма определяет субъективный подход художников к
изображению действительности, да и вообще показ реальности необходим настолько,
насколько это способствует раскрытию внутреннего мира героя. Романтический
герой — человек с сильными чувствами, с неповторимо острой реакцией на мир,
отвергающий законы, которым подчиняются остальные. Герой этот одинок, он
обладает исключительным характером, проявляющимся в исключительных обстоятельствах.
Важное место в литературе романтизма занимает природа. Она должна быть
экзотичной, дикой, порой даже стихийной. Писатели-романтики обнаруживают также
тесную связь с традициями своего народа, с фольклором. Представители русской школы романтизма: В. Жуковский –
основоположник русского романтизма, К. Рылеев, В. Кюхельбекер, А.
Одоевский, К. Батюшков, раннее
творчество А.С. Пушкина.
Специфику
творческого метода романтизма определяет субъективный подход художников к
изображению действительности, да и вообще показ реальности необходим настолько,
насколько это способствует раскрытию внутреннего мира героя. Романтический
герой — человек с сильными чувствами, с неповторимо острой реакцией на мир,
отвергающий законы, которым подчиняются остальные. Герой этот одинок, он
обладает исключительным характером, проявляющимся в исключительных обстоятельствах.
Важное место в литературе романтизма занимает природа. Она должна быть
экзотичной, дикой, порой даже стихийной. Писатели-романтики обнаруживают также
тесную связь с традициями своего народа, с фольклором. Представители русской школы романтизма: В. Жуковский –
основоположник русского романтизма, К. Рылеев, В. Кюхельбекер, А.
Одоевский, К. Батюшков, раннее
творчество А.С. Пушкина.
НАТУРАЛИЗМ (от франц. naturalisms, лат. nature — природа)
— литературное направление, сложившееся в последней трети XIX в. , утверждавшее предельно точное, объективное и
бесстрастное изображение действительности и человеческого характера,
обусловленною физиологической природой и средой. Писатели-натуралисты сравнивали литературу с наукой, считая, что творец
не имеет права в выборе материала, и что не существует запрещенных тем для литературной деятельности.
, утверждавшее предельно точное, объективное и
бесстрастное изображение действительности и человеческого характера,
обусловленною физиологической природой и средой. Писатели-натуралисты сравнивали литературу с наукой, считая, что творец
не имеет права в выборе материала, и что не существует запрещенных тем для литературной деятельности.
Основоположником натурализма в мировой литературе является Э. Золя.
В русской литературе натурализм не нашел своего распространения.
ИМПРЕССИОНИЗМ (от франц. impressionnisme. impression — впечатление) — направление в литературе и искусстве конца XIX — начала XX вв. Импрессионизму характерно отсутствие четко заданной формы и стремление передать явления действительности в отрывочных, мгновенно фиксирующих каждое впечатление штрихах, обнаруживающих при обзоре целого свое скрытое единство и связь.
Ярчайший
представитель импрессионизма в русской литературе — И. Бунин. Черты
импрессионизма характерны творчеству А. Чехова, А. Фета.
Чехова, А. Фета.
АКМЕИЗМ (от греч. акте — высшая степень чего-нибудь, цветущая сила) — литературное направление начала XX в., которое опиралось на приятие земного мира во всей его видимой конкретности. Для акмеизма характерен острый взгляд на подробности бытия, живое и непосредственное ощущение природы, культуры, мироздания. Центральной мыслью акмеизма было равноправие всего сущего на земле.
Представители акмеизма в русской литературе: Н. Гумилев, О. Мандельштам, А. Ахматова.
СИМВОЛИЗМ (от греч. symbolon — знак, символ) — литературное направление конца XIX — начала XX вв. Литературный символ рассматривался как более действенное, чем собственно образ, средство, помогающее прорваться сквозь покров повседневности к сверхвременной идеальной сущности мира.
Русские символисты: В. Брюсов, К. Бальмонт, Ф. Сологуб, И. Анненский, А. Блок, А. Белый.
ФУТУРИЗМ (от лат. futurum — будущее)
— литературное в искусстве начала XX в., основанное на
разрыве с традиционной культурой, утверждающее эстетику современной урбанистической
цивилизации с ее динамичностью и безличностью.
futurum — будущее)
— литературное в искусстве начала XX в., основанное на
разрыве с традиционной культурой, утверждающее эстетику современной урбанистической
цивилизации с ее динамичностью и безличностью.
Русские футуристы: В. Хлебников, В. Каменский, В. Маяковский, А. Крученых, И. Северянин.
ИМАЖИНИЗМ (от англ. image — образ) — литературное течение в Росси 1920-х, в основе которого лежала декларация самоценности слова-образа.
Представители: В. Шсршеневич, С. Есенин, Р. Ивнез, А. Мариенгоф.
РЕАЛИЗМ (от позднелат. realis — вещественный,
действительный) — художественный метод в искусстве и литературе, который
отражает стремление художников к правдивому изображению действительности. Реализм
стремится к глубинному постижению жизни и к широкому охвату действительности с
присущими ей противоречиями, признает право художника освещать все стороны
жизни без ограничения. В центре внимания
писателей-реалистов находятся существующие в жизни закономерности,
регламентирование причинно-следственными связями. Герои изображаются а реальных
жизненных ситуациях, при этом важное место занимает анализ социальной среды,
которая оказывает влияние на формирование личности.
Герои изображаются а реальных
жизненных ситуациях, при этом важное место занимает анализ социальной среды,
которая оказывает влияние на формирование личности.
Дело всей его жизни — Вопросы литературы
С. И. Маслов, Кирилл Транквиллион-Ставровецкий и его литературная деятельность. Опыт историко-литературной монографии, Киев, «Наукова думка», 1984, 245 с.
Наши представления о той или иной культурной эпохе были бы неполными, даже поверхностными, если бы мы не имели детальных исследований, посвященных отдельным писателям, художникам, ученым, творившим тогда. В этом отношении едва ли не менее всего повезло времени барокко, изучение которого в широких масштабах началось в мировом литературоведении сравнительно недавно. До сих пор все еще возникают споры даже о том, чем же, в сущности, является барокко: культурно-исторической эпохой, направлением, стилем? Не ясно и многое другое из особенностей того периода, хронологические границы которого проходят по XVI, XVII, а в некоторых странах и XVIII веку. Именно тогда практически по всей Европе в различных областях искусства распространилось художественное направление, давшее позднее название целой культурно-исторической эпохе – барокко.
Именно тогда практически по всей Европе в различных областях искусства распространилось художественное направление, давшее позднее название целой культурно-исторической эпохе – барокко.
Возникло барокко в Италии и Испании, откуда быстро проникло в Германию, Польшу и другие страны, не исключая и окраин континента, где жили южные и восточные славяне. От Московии на востоке до Испании, а через ее посредство и до Латинской Америки на западе – таковы территориальные границы барокко. Во всех областях искусства барокко имело много общего в своей основе. В литературе это было первое общеевропейское художественное направление, в котором национальные особенности каждого из народов, сама народная культура играют столь заметную роль.
Не вызывает сомнений теснейшая связь этого направления с напряженной религиозно-политической борьбой, охватившей в ту пору большую часть европейских стран. Социальным контекстом для барокко в католических странах была контрреформация, в протестантских – укрепление вновь возникших реформатских церквей, на Украине и в Белоруссии – усиленная религиозная полемика, а порой и вооруженная политическая борьба, принимавшая общенародную окраску. Сложное переплетение большого числа религиозных и гражданских элементов, открытия науки, взгляд на Вселенную как на бесконечность, место человека в этой бесконечности, национальные традиции конкретного народа, его чаяния и надежды и многое другое определили своеобразие барокко и как целой культурно-исторической эпохи, и как общеевропейского художественного направления, и как направления в развитии культуры отдельного народа. Тема Вселенной и человека, человека в бесконечной Вселенной, тема бога наполнили содержание произведений большинства писателей этой эпохи. В огромном числе случаев религиозные элементы в их творчестве явно доминируют. Стилевые особенности литературы барокко характеризуются необычайной метафоричностью, ажурной орнаментальностью, склонностью к гиперболе, аллегории, к общей разнородности, а иногда и парадоксальности в использовании языковых средств. Собственно религиозная литература барокко появилась впервые также в Италии во второй половине XVI века и быстро распространилась по всей Европе.
Сложное переплетение большого числа религиозных и гражданских элементов, открытия науки, взгляд на Вселенную как на бесконечность, место человека в этой бесконечности, национальные традиции конкретного народа, его чаяния и надежды и многое другое определили своеобразие барокко и как целой культурно-исторической эпохи, и как общеевропейского художественного направления, и как направления в развитии культуры отдельного народа. Тема Вселенной и человека, человека в бесконечной Вселенной, тема бога наполнили содержание произведений большинства писателей этой эпохи. В огромном числе случаев религиозные элементы в их творчестве явно доминируют. Стилевые особенности литературы барокко характеризуются необычайной метафоричностью, ажурной орнаментальностью, склонностью к гиперболе, аллегории, к общей разнородности, а иногда и парадоксальности в использовании языковых средств. Собственно религиозная литература барокко появилась впервые также в Италии во второй половине XVI века и быстро распространилась по всей Европе. Особенное развитие везде получила поэзия, в том числе и религиозная, полная трагических переживаний и предчувствий, часто глубоко лирическая, экспрессивная, как бы сама в себе воспроизводящая мир в его движении, вечном изменении. Религиозная проза барокко представлена в основном переводами Библии и отдельных ее частей, ораторской (проповеднической) прозой и морально-дидактическими и религиозно-философскими трактатами. Наибольшее развитие получила проповедь, в том числе в Польше, на Украине, в Белоруссии и Литве. Появилось огромное число произведений, тематика которых целиком связана с библейскими сюжетами, прежде всего с новозаветными: многочисленные мессиады (поэмы о жизни Иисуса Христа), произведения о мадонне (богоматери) и т. д. Наступило возрождение, хотя, в общем-то, и кратковременное, агиографического (житийного) жанра, в котором, однако, заметны новые, чисто барочные черты.
Особенное развитие везде получила поэзия, в том числе и религиозная, полная трагических переживаний и предчувствий, часто глубоко лирическая, экспрессивная, как бы сама в себе воспроизводящая мир в его движении, вечном изменении. Религиозная проза барокко представлена в основном переводами Библии и отдельных ее частей, ораторской (проповеднической) прозой и морально-дидактическими и религиозно-философскими трактатами. Наибольшее развитие получила проповедь, в том числе в Польше, на Украине, в Белоруссии и Литве. Появилось огромное число произведений, тематика которых целиком связана с библейскими сюжетами, прежде всего с новозаветными: многочисленные мессиады (поэмы о жизни Иисуса Христа), произведения о мадонне (богоматери) и т. д. Наступило возрождение, хотя, в общем-то, и кратковременное, агиографического (житийного) жанра, в котором, однако, заметны новые, чисто барочные черты.
Украинское, белорусское, а позднее, через польско-украинско-белорусское посредство, и русское барокко унаследовало многие черты этого общеевропейского направления, добавив к нему свои собственные. Можно предполагать, что первые литературные опыты в новом стиле появились на Украине и в Белоруссии, как и в Польше, в конце XVI – начале XVII века и в значительной степени были связаны с интенсивным проникновением сюда новейшей польско-латинской литературы, активной католической пропагандой и реакцией на нее. Барокко в восточнославянских литературах развивалось в условиях нарастания отпора католицизму со стороны православных писателей, возникновения церковной унии; не удивительно поэтому, что здесь главное место долгое время занимали религиозно-полемические сочинения, проповедь, толкования, а чуть позднее – и поэтические произведения морально-дидактического и религиозно-философского характера. И. Иваньо писал, что «почти до конца XVIII века барокко оставалось стилевой доминантой творчества большинства украинских писателей», что «большинство украинских поэтов, начиная от Кирилла Транквиллиона-Ставровецкого и кончая Сковородой, писали в этом ключе» 1. На развитие украинского барокко в литературе решающую роль оказали древнерусская книжность, восходящая в конечном итоге к риторической традиции поздней античности, и украинский фольклор, включающий порой и языческие элементы.
Можно предполагать, что первые литературные опыты в новом стиле появились на Украине и в Белоруссии, как и в Польше, в конце XVI – начале XVII века и в значительной степени были связаны с интенсивным проникновением сюда новейшей польско-латинской литературы, активной католической пропагандой и реакцией на нее. Барокко в восточнославянских литературах развивалось в условиях нарастания отпора католицизму со стороны православных писателей, возникновения церковной унии; не удивительно поэтому, что здесь главное место долгое время занимали религиозно-полемические сочинения, проповедь, толкования, а чуть позднее – и поэтические произведения морально-дидактического и религиозно-философского характера. И. Иваньо писал, что «почти до конца XVIII века барокко оставалось стилевой доминантой творчества большинства украинских писателей», что «большинство украинских поэтов, начиная от Кирилла Транквиллиона-Ставровецкого и кончая Сковородой, писали в этом ключе» 1. На развитие украинского барокко в литературе решающую роль оказали древнерусская книжность, восходящая в конечном итоге к риторической традиции поздней античности, и украинский фольклор, включающий порой и языческие элементы. В целом, как подчеркивает современный исследователь, ныне в «советской науке установились взгляды на барокко как на сложное, идеологически неоднородное явление. При общности ведущих художественно-стилевых черт оно, подобно более позднему романтизму, включает в себя течения различной идеологической направленности» 2.
В целом, как подчеркивает современный исследователь, ныне в «советской науке установились взгляды на барокко как на сложное, идеологически неоднородное явление. При общности ведущих художественно-стилевых черт оно, подобно более позднему романтизму, включает в себя течения различной идеологической направленности» 2.
О барокко в восточнославянских литературах активно заговорили совсем недавно, и если о западноевропейском литературном барокко существует уже значительное число монографических исследований, то проблема, а точнее, проблемы восточнославянского литературного барокко – тема еще мало изученная, особенно со стороны творчества отдельной писательской личности.
Писатель не только летописец, но и полноправный герой своего времени. Уже сама его биография дает, как правило, обильный материал для суждений об эпохе в целом. В истории наших древних литератур (русской, украинской и белорусской), необычайно интенсивно развивавшихся в эпоху барокко, уровень проявления в произведении личности писателя, авторского начала колебался от полной анонимности до тех случаев, когда писатель не только скромно упоминает о своем авторстве, но даже подчеркивает его. В подобных обстоятельствах не всегда удается атрибутировать то или иное произведение, тем более трудно исследовать творческую биографию писателя, на счету которого могли быть и совершенно анонимные, и полуанонимные, и сугубо авторские сочинения.
В подобных обстоятельствах не всегда удается атрибутировать то или иное произведение, тем более трудно исследовать творческую биографию писателя, на счету которого могли быть и совершенно анонимные, и полуанонимные, и сугубо авторские сочинения.
Не случайно в нашем литературоведении так мало монографических исследований, посвященных жизни и творчеству писателей древнего периода, в том числе времени барокко. Для того чтобы выполнить такие исследования, необходимо вначале изучить колоссальный рукописный и старопечатный материал, проделать просто гигантскую текстологическую работу, занимающую многие годы, собрать буквально по крупицам документальные, актовые свидетельства и лишь после этого переходить к ирискам определенных закономерностей и некоторым выводам.
Именно так, год за годом, создавалась одна из таких Книг – «Кирилл Транквиллион-Ставровецкий и его литературная деятельность. Опыт историко-литературной монографии», принадлежащая перу выдающегося украинского филолога, члена-корреспондента АН УССР С. И. Маслова (1880 – 1957). Написанная в основном почти восемьдесят лет назад, эта книга не потеряла своей ценности до сегодняшнего дня3 и была издана Институтом литературы имени Т. Г, Шевченко АН УССР в 1984 году. Издание монографического исследования о Кирилле Транквиллионе осуществлено по авторской рукописи, хранящейся в семье сына С. И. Маслова, профессора Ленинградского государственного университета Ю. С. Маслова. Книга открывается введением В. Крекотня «Сергей Иванович Маслов и его исследование о Кирилле Транквиллионе-Ставровецком» (стр. 5 – 12) и предисловием «От составителя» А. Павленко (стр. 13 – 15), подготовившей рукопись к изданию.
И. Маслова (1880 – 1957). Написанная в основном почти восемьдесят лет назад, эта книга не потеряла своей ценности до сегодняшнего дня3 и была издана Институтом литературы имени Т. Г, Шевченко АН УССР в 1984 году. Издание монографического исследования о Кирилле Транквиллионе осуществлено по авторской рукописи, хранящейся в семье сына С. И. Маслова, профессора Ленинградского государственного университета Ю. С. Маслова. Книга открывается введением В. Крекотня «Сергей Иванович Маслов и его исследование о Кирилле Транквиллионе-Ставровецком» (стр. 5 – 12) и предисловием «От составителя» А. Павленко (стр. 13 – 15), подготовившей рукопись к изданию.
Выбор С. Маслова пал на Кирилла Транквиллиона-Ставровецкого не случайно. Кирилл Транквиллион – одна из ярчайших личностей эпохи барокко, стоящая у его истоков в украинской литературе. Не удивительно, что интерес к нему и его деятельности становится особенно заметным в последние годы4. Знаменитый церковный писатель и поэт, издатель и педагог, философ и пламенный проповедник, он был одним из тех многогранных и не малочисленных талантов, которые столь заметно развили и продвинули украинскую литературу конца XVI – XVII века. Вместе с тем в литературоведении XIX – начала XX века, особенно молодом тогда украинском литературоведении, о литературе и писателях эпохи барокко, которую во времена С. Маслова так практически не называли, было известно немногое. Кирилл Транквиллион выглядел среди писателей своей поры личностью едва ли не загадочной.
Вместе с тем в литературоведении XIX – начала XX века, особенно молодом тогда украинском литературоведении, о литературе и писателях эпохи барокко, которую во времена С. Маслова так практически не называли, было известно немногое. Кирилл Транквиллион выглядел среди писателей своей поры личностью едва ли не загадочной.
Приступая к работе над книгой, С. Маслов поставил перед собой несколько больших и сложных задач, реализация каждой из которых в виде печатного исследования могла бы иметь и вполне самостоятельное значение. Ученый хотел на общем историко-культурном фоне жизни Украины конца XVI – начала XVII века воссоздать биографию писателя, проанализировать его сочинения и их судьбу в литературном и общекультурном процессе, дать книговедческий и кодикологический обзор изданий и рукописей этих сочинений и, наконец, подробно рассмотреть миросозерцание Кирилла Транквиллиона. Все это заставило его с особой тщательностью подойти к проблеме источников, использованных им в работе. Число и характер этих источников требовали строгой систематизации, тщательной критики текстов, сложных сопоставлений.
С. Маслов разделил все источники на пять групп. К первой он отнес различные издания сочинений Кирилла Транквиллиона; ко второй – некоторые документы, касающиеся львовского и виленского периодов жизни писателя; к третьей – отдельные рукописи, имеющие отношение к Кириллу; к четвертой – документы о последнем этапе его жизни; к пятой – разнообразные материалы, раскрывающие судьбу сочинений Кирилла в XVII – XIX веках.
В соответствии с задуманным текст исследования С. Маслова разбит на пять глав, в которых подробно излагается биография писателя, разбирается его литературная и издательская деятельность, рассматривается миросозерцание Кирилла Транквиллиона и судьба его сочинений. В пятой главе дается библиографический обзор написанного Транквиллионом.
Учитывая особую значимость методической и организационной сторон работы С. Маслова, необходимо сразу отметить, что столь строгого подхода к исследуемому материалу наше отечественное литературоведение в ту пору почти не знало. Можно с уверенностью сказать, что подавляющее большинство завершенных к тому времени отечественных работ по древним литературам по своей методике исследования, глубине и основательности значительно уступало «Опыту историко-литературной монографии» С. Маслова. Эта монография и в дальнейшем продолжала оставаться образцовой, о чем свидетельствует отзыв одного из виднейших советских литературоведов-медиевистов, академика В. Перетца: «Такой основательной, полной, критически и деловито написанной монографии мы не имеем ни об одном из старых украинских писателей» 5.
Маслова. Эта монография и в дальнейшем продолжала оставаться образцовой, о чем свидетельствует отзыв одного из виднейших советских литературоведов-медиевистов, академика В. Перетца: «Такой основательной, полной, критически и деловито написанной монографии мы не имеем ни об одном из старых украинских писателей» 5.
Использование в работе максимального числа источников позволило С. Маслову поставить совершенно новую тогда проблему распространения произведений писателя, которую он наметил раскрыть в самых широких временных и пространственных границах (территория Украины, Белоруссии и России до XIX века включительно). О том, насколько действительно нова и принципиально важна для литературоведения была поднятая С. Масловым проблема, могут свидетельствовать слова известного русского филолога И. Шляпкина (1858 – 1918), старшего его современника, о том, что у нас принято изучать литературные произведения со стороны глубины их идей, а «не со стороны широты их распространения в читающей массе»6. С. Маслов существенно обогатил научный подход к литературному наследию древности. Его постановка вопроса о «судьбе сочинений» адекватна весьма актуальной ныне проблеме рецепции литературных произведений, в решении которой он был одним из первых.
С. Маслов существенно обогатил научный подход к литературному наследию древности. Его постановка вопроса о «судьбе сочинений» адекватна весьма актуальной ныне проблеме рецепции литературных произведений, в решении которой он был одним из первых.
Совершенно новым в работе С. Маслова было и то, что он построил свое исследование на детальном книговедческом и кодикологическом анализе, когда книговедческие методы изучения дают возможность собрать важный и абсолютно уникальный материал там, где, казалось бы, его и нет. Монография С. Маслова, пожалуй, первая отечественная работа, где наряду с общекниговедческими методами исследования столь пристальное внимание отводится поэкземплярному описанию старопечатных изданий, которое в широких масштабах стало применяться советскими учеными много позднее. Результаты огромной работы, проделанной С. Масловым, наглядно демонстрируют, сколь успешным может быть применение книговедческого инструментария в литературоведческих исследованиях, особенно в тех случаях, когда архивные, документальные источники почти отсутствуют. Такой подход исследователя во многом определил успех дела.
Такой подход исследователя во многом определил успех дела.
Ему удалось показать писателя как бы изнутри, раскрыть перед читателем мир его взглядов, идеалов и идей. Детальный анализ сочинений Кирилла во второй главе позволил С. Маслову подробнейшим образом рассказать о стиле писателя, художественных средствах и литературных источниках, которыми он пользовался. В этой главе С. Маслов разбирает все известные произведения писателя: «Зерцало богословии», «Евангелие учительное», «Перло многоценное». «Зерцало богословии» (напечатано в 1618 году) содержит не полную догматическую систему, а именно учение о вере, в основном в форме очень близкой к обычной проповеди. Сочинение написано достаточно образно, отдельные его места наполнены настоящим лиризмом, казалось бы, неуместным в такой книге. Желая сделать «Зерцало» более доступным широкому читателю, Кирилл писал его в основном на близком к народному языке: «… в той книзi простый язык и словенській»7, то есть простой и церковнославянский. «Евангелие учительное» (впервые напечатано в 1619 году и затем неоднократно переиздавалось) – своеобразный тип систематического сборника проповедей, известный из глубокой древности. «Перло многоценное» (напечатано в 1646 году) – сборник.. написанный прозою и стихами-виршами.
«Евангелие учительное» (впервые напечатано в 1619 году и затем неоднократно переиздавалось) – своеобразный тип систематического сборника проповедей, известный из глубокой древности. «Перло многоценное» (напечатано в 1646 году) – сборник.. написанный прозою и стихами-виршами.
По всем этим сочинениям Кирилла можно проследить, как в его творчество постепенно, вначале почти незаметно, входят элементы барокко; отдельные из них С. Маслов именует «признаками схоластического периода литературы» (стр. 137 и др.). Разбирая построение проповедей Кирилла, их язык и стиль, С. Маслов не называет их собственно барочными, в полной мере таковыми он считает творения проповедников, «относящиеся ко второй половине XVII в.», когда «придерживались уже стиля барокко» (стр. 91). Однако мнение С. Маслова не совсем верно. Данные, накопленные советским и зарубежным литературоведением наших дней, позволяют отметить появление некоторых черт барокко даже в главных сочинениях Кирилла – в проповедях. Здесь и тяготение к явно новой латино-польской структуре, и аллегория, и порой почти поэтическая экспрессия, свойственные проповеди эпохи барокко. Да и сама проповедь как жанр была тогда в восточнославянских литературах делом новым и считалась современниками пришедшей с «латинского» Запада, Не случайно поэтому книги Кирилла Транквиллиона подвергались запрещению и на Украине, и в России сразу же после их напечатания. «Тех книг новаго слогу Кирилова… никому от правоверных в домех не держати, ни чести, ни покупати», – гласит постановление Киевского церковного собора 1620-х годов. В России же гражданскими и церковными властями книги Транквиллиона подвергаются сожжению как еретические и по содержанию, и по форме. Вместе с тем «новаго слогу» проповеди появились на старом фундаменте – их основа древнерусская книжность со всеми ее особенностями, более всего это заметно в «Евангелии учительном», даже язык которого почти чистый церковнославянский.
Да и сама проповедь как жанр была тогда в восточнославянских литературах делом новым и считалась современниками пришедшей с «латинского» Запада, Не случайно поэтому книги Кирилла Транквиллиона подвергались запрещению и на Украине, и в России сразу же после их напечатания. «Тех книг новаго слогу Кирилова… никому от правоверных в домех не держати, ни чести, ни покупати», – гласит постановление Киевского церковного собора 1620-х годов. В России же гражданскими и церковными властями книги Транквиллиона подвергаются сожжению как еретические и по содержанию, и по форме. Вместе с тем «новаго слогу» проповеди появились на старом фундаменте – их основа древнерусская книжность со всеми ее особенностями, более всего это заметно в «Евангелии учительном», даже язык которого почти чистый церковнославянский.
Глава третья («Миросозерцание Транквиллиона»), относящаяся уже скорее к истории философии, – едва ли не лучшая и самая интересная в книге. В то же время это, пожалуй, одна из немногих не только в советской, но и в мировой науке работ, в которой на основе скрупулезнейшего анализа столь тщательно выписан морально-психологический портрет человека древней поры, рассмотрены его взгляды на природу и общество, отношение к науке и знанию, нравственные и эсхатологические воззрения. Перед нами мировоззрение восточного славянина начала эпохи барокко, воспитанного целиком в духе старой древнерусской культуры, но уже делающего первые, еще, в общем-то, робкие попытки движения в сторону культуры для него новой, западноевропейской.
Перед нами мировоззрение восточного славянина начала эпохи барокко, воспитанного целиком в духе старой древнерусской культуры, но уже делающего первые, еще, в общем-то, робкие попытки движения в сторону культуры для него новой, западноевропейской.
Всем этим и ценна монография С. Маслова, характеризующаяся, при некоторой внешней незавершенности, универсальностью, многоаспектностью, основательностью источниковой базы. Гуманитарии самых различных специальностей найдут в ней немало интересного и принципиально нового как со стороны оценки конкретной писательской личности и ее творчества, так и со стороны приемов и методов исследования, использованных автором.
- І. Іваньо, Про українське літературне барокко. – «Радянське літературозназство», 1970, N 10, с. 50.[↩]
- Д. С. Наливайко, Искусство: направления, течения, стили, Киев. 1981, с. 113.[↩]
- Автор постоянно на протяжении всей своей жизни дополнял и исправлял ее тенет.[↩]
- Я. Д. Ісаевич, I. З. Мицко, Життя i видавнича діяльність Кирила Транквіліона-Ставровецького.
 – В кн.: «Бібліотекознавство та бібліографія», Киев. 1983. с. 51 – 67.[↩]
– В кн.: «Бібліотекознавство та бібліографія», Киев. 1983. с. 51 – 67.[↩] - В. Н. Перетц, Нарис наукової діяльності проф. С. I. Маслова. – В кн.: «Серий Маслов. 1902 – 1927», Киев, 1927, с. 24 – 25.[↩]
- И. А. Шляпкин, Святой Димитрий Ростовский и его время (1651 – 1709), СПб., 1891, с. 118.[↩]
- Кирилл Транквиллион, Зерцало богословии, Почаев, 1618, л. 5.[↩]
Основные темы барокко
Медуза Джан Лоренцо Бернини.
Это обсуждение природы культуры барокко, проведенное Барбарой Борнгассер и Рольфом Томаном, является выдержкой из Введения в Живопись скульптуры в стиле барокко , 1998 г. Фотографии принадлежат мне.
Theatrum Mundi : Жизнь как синтез искусств
Редко дух барокко проявляется так сильно, как в творчестве испанского поэта Кальдерона де ла Барка. В своей аллегорической пьесе El Gran Theatro del Mundo [Великий театр мира], впервые исполненный в 1645 году, он переносит классическую идею «жизни как игры» в свое время. Эта концепция предполагает, что люди ведут себя как актеры перед Богом и его небесными воинствами; пьеса, которую они разыгрывают, — это инсценировка их собственной жизни, а их сцена — это мир.
Эта концепция предполагает, что люди ведут себя как актеры перед Богом и его небесными воинствами; пьеса, которую они разыгрывают, — это инсценировка их собственной жизни, а их сцена — это мир.
Метафора «мир как сцена» преобладала на протяжении всего периода барокко, с конца шестнадцатого до конца восемнадцатого века. Идея заключала в себе заметные противоречия, которые можно было выявить как на сцене, так и «за кулисами». Реальность и видимость, величие и аскетизм, сила и слабость были постоянными, но противоположными характеристиками эпохи. В мире, сотрясаемом социальными потрясениями, войнами и религиозными конфликтами, образ огромной пьесы, казалось, обеспечивал определенную стабильность. В то же время пышность барочных правителей, будь то папы или короли, по-видимому, служила дополнительной политической цели: их грандиозные церемонии можно было рассматривать как ремарки для этого «мирового театра» и как зеркало высшего, предположительно, высшего порядка. Богом данный, порядок.
Изобразительное искусство, как и исполнительское искусство, кажется, выполняло две четкие функции в этот период: они были созданы для того, чтобы впечатлять и даже ослеплять граждан, одновременно передавая определенную идеологию. Искусство обеспечило обстановку для разворачивающейся драмы и помогло создать идеал идеально упорядоченного мира. Рассмотрим в этом контексте, например, художественные перспективы, развернутые в потолочных росписях барочных церквей и дворцов, которые открывают царство над архитектурным пространством, которое как бы дает доступ к самим небесным сферам.
Однако не всегда удавалось игнорировать противоречия современной жизни, и эти противоречия в той или иной степени представлены в искусстве барокко. Показная демонстрация материальных благ противопоставлялась глубоко укоренившейся вере, а необузданные чувственные удовольствия жизни проникались сознанием неизбежности смерти…
Искусство барокко в первую очередь стремится к чувственному обращению к зрителю: театральным пафосом, иллюзионистскими приемами, игрой разных форм художник стремится произвести впечатление, убедить, вызвать внутренний отклик. Это может объяснить, почему этот стиль часто воспринимается как экстравагантный, эффектный или даже претенциозный. К концу восемнадцатого века итальянский писатель Франческо Милиция уже описывал барочные формы архитектуры Борромини как «преувеличенное выражение причудливого или смешного, доведенного до крайности». Барокко часто высмеивали в двадцатом веке. Итальянский философ Бенедетто Кроче, например, жаловался в XIX в.20-е о невещественности стиля……Возможно, наша нынешняя эпоха, явно сильно тяготеющая к внешнему очарованию, добьется нового отношения к этому увлекательному периоду в истории искусства……….
Это может объяснить, почему этот стиль часто воспринимается как экстравагантный, эффектный или даже претенциозный. К концу восемнадцатого века итальянский писатель Франческо Милиция уже описывал барочные формы архитектуры Борромини как «преувеличенное выражение причудливого или смешного, доведенного до крайности». Барокко часто высмеивали в двадцатом веке. Итальянский философ Бенедетто Кроче, например, жаловался в XIX в.20-е о невещественности стиля……Возможно, наша нынешняя эпоха, явно сильно тяготеющая к внешнему очарованию, добьется нового отношения к этому увлекательному периоду в истории искусства……….
СС. Лука и Мартина, Рим, 1635-50, Пьетро да Кортона.
Барокко как концепция стиля и как историческая эпоха
Презрение к барокко… на самом деле было очевидным даже тогда, когда оно начало формироваться как четко определенный стиль. В конце девятнадцатого века, до того, как оно было определено как особый стиль, слово «барокко» широко использовалось как уничижительный термин для обозначения всего, что считалось нелепым, причудливым, витиеватым, нечетким и запутанным, искусственным и напускным… .
Отрицательный образ барокко был витиеватым, даже смехотворным стилем, догматически продвигаемым учеными, воспитанными на понятиях эстетической ценности, прочно укоренившихся в почтении к классической древности. Такие ученые, как Иоганн Иоахим Винкельманн, например, рассматривали период барокко как простое «лихорадочное безумие». Хотя Якоб Бурхардт, как, например, Винкельманн, предпочитал классическую идиому, он был первым, кто рассмотрел архитектуру семнадцатого и восемнадцатого веков как нечто большее, чем изолированное и аномальное явление, подчеркнув ее связь с формами эпохи Возрождения. Хотя он описал переход от Возрождения к барокко как «вырождение диалекта», его работа позволила более разборчиво оценить искусство этого периода и представляет собой самое раннее серьезное исследование его компонентов. В 1875 году он признался: «Мое уважение к барокко возрастает с каждым часом, и я готов признать его истинным завершением и окончательным концом живой архитектуры». Это было замечательное изменение отношения.
[Обсуждение принятия барокко в качестве предмета, достойного академического исследования.]
Церковь, слон и обелиск Джан Лоренцо Бернини на площади Санта-Мария-сопра-Минерва, Рим.
Пафос и драма
Голландский историк Йохан Хейзинга представил четкий обзор основных элементов культуры барокко в своем Голландская культура семнадцатого века : «Великолепие и достоинство, театральный жест, строго применяемые правила и закрытая система образования была правилом; идеалом было послушное благоговение перед церковью и государством. Правление монархии преклонялось: каждое отдельное государство выступало за автономию и безжалостно корыстную националистическую политику. Общественная жизнь вообще велась на возвышенном языке, к которому относились совершенно серьезно. В эффектных церемониальных мероприятиях преобладали зрелищность и зрелищность. Восстановление веры нашло свое наглядное воплощение в высокозвучных, триумфальных образах Рубенса, испанских живописцев и Бернини». ………..
………..
В то время как жизнь при дворе в стиле барокко регулировалась строгой церемонией, празднества, хотя и основывались на определенных основных правилах, давали выход веселью и приподнятому настроению. Ни одна эпоха не знала более пышных празднеств. Версаль диктовал стиль, которому подражал каждый двор в Европе: празднества, продолжавшиеся целыми днями и ночами, объединяли все искусства в обширном синтезе, поскольку опера, балет и фейерверки устанавливали новые стандарты развлечений. Залы, украшенные мифологическими образами, сады и водные просторы были идеальными декорациями, постоянно трансформируемыми в новые перспективы с помощью иллюзионистских и механических трюков. На несколько дней все домочадцы погрузились в мир богов и героев……
Слон у подножия «Слон и обелиск», 1665-67, Джан Лоренцо Бернини. Пьяцца С. Мария сопра Минерва, Рим.
Риторика и Concettismo
Чрезмерно яркая репутация искусства барокко не должна заслонять тот факт, что оно подчинялось строгим правилам. Точно так же, как церемония влияла на поведение людей по отношению друг к другу, правила риторики определяли структуру дискурса и произведений искусства. Риторика, унаследованная от классической традиции, описывала «искусство размеренной речи», стиль дискурса, составлявший часть образования с античности до конца восемнадцатого века. Он предлагал руководство по общению между говорящим и слушателем и давал правила интерпретации сказанного. Он установил, что к аудитории нужно обращаться соответствующим образом и по конкретному предмету, который необходимо четко объяснить, чтобы убедить слушателей после того, как они взвесили различные вопросы. Этот процесс может включать использование таких манипулятивных ухищрений, как эмоциональность, провокация и отчуждение. Именно эти три элемента оказались исключительно полезными при прочтении искусства барокко. Эти риторические приемы применялись как к структуре изображения и построению сцен в цикле исторических фресок, так и в скульптуре… «восхищать и волновать» было целью как удачной речи, так и хорошо построенной речи.
Точно так же, как церемония влияла на поведение людей по отношению друг к другу, правила риторики определяли структуру дискурса и произведений искусства. Риторика, унаследованная от классической традиции, описывала «искусство размеренной речи», стиль дискурса, составлявший часть образования с античности до конца восемнадцатого века. Он предлагал руководство по общению между говорящим и слушателем и давал правила интерпретации сказанного. Он установил, что к аудитории нужно обращаться соответствующим образом и по конкретному предмету, который необходимо четко объяснить, чтобы убедить слушателей после того, как они взвесили различные вопросы. Этот процесс может включать использование таких манипулятивных ухищрений, как эмоциональность, провокация и отчуждение. Именно эти три элемента оказались исключительно полезными при прочтении искусства барокко. Эти риторические приемы применялись как к структуре изображения и построению сцен в цикле исторических фресок, так и в скульптуре… «восхищать и волновать» было целью как удачной речи, так и хорошо построенной речи. произведение искусства……
произведение искусства……
Сам художник редко был в состоянии работать над concetti или идеями, но это был способ подняться над рангом простого ремесленника. Герман Бауэр определил concetti как «превращение мысли через несколько стадий», «путь от предмета к его значению (как метафора)»; это был «составляющий» элемент барочного произведения искусства.
Церковь Ла-Маддалена, Пьяцца делла Маддалена, Рим, 1735 год. Фасад отреставрирован. Хороший образец римского позднего барокко.
«Последние вещи»
Вернемся к «Мировому театру» Кальдерона…
Когда опускается занавес, остаются только «последние четыре вещи» — смерть, суд, рай и ад. Аллегорическая репрезентация этих понятий занимала всю эпоху барокко и снабдила концепт его наиболее волнующими произведениями искусства.
Рольф Томан, изд., Архитектура в стиле барокко Живопись Скульптура , Кенеманн, Германия, 1998, ISBN — 3-89508-917-6, перевод Пола Астона, Фила Гринхеда и Кристин Шаттлворт. Редактор английского издания Кэтрин Биндман. Введение Барбары Борнгассер и Рольфа Томана, стр. 7-11.
Редактор английского издания Кэтрин Биндман. Введение Барбары Борнгассер и Рольфа Томана, стр. 7-11.
Джезу, Рим, 1568-84 гг. Джакомо Бароцци да Виньола и Джакомо делла Порта. Воплощение римской архитектуры Контрреформации.
Нравится:
Нравится Загрузка…
Определение периода барокко и интересные литературные примеры
В те годы барокко было в основном распространено в Англии и Испании и определяется несколькими интересными особенностями. К ним относятся опора на литературные приемы и желание писать на морализаторские или религиозные темы. Частично это было сделано по настоянию католической церкви. Важные писатели этого периода включают Джона Мильтона, Джорджа Герберта, Франсиско де Кеведо и Мигеля де Сервантеса. Также часто цитируются поэты-метафизики, такие как Джон Донн.
Произношение в барочной площадке: BUH-Rowk
Исследуйте период барокко
- 1 Определение литературы барочной литературы
- 2 Испанская литература барокко
- 3 СПАСИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
- 4 FAQS
- 5 СПАСИБОМА
- 5.

Определение литературы барокко
Литература барокко создавалась между 16 и 18 веками. Обычно его определяют как изображение между периодами Возрождения и Просвещения. На протяжении всего этого периода писатели довольно сильно интересовались использованием литературных приемов. Они включали примеры метафор и символов. Довольно популярной была и религиозная тематика, одобренная Римско-католической церковью. Часто поэты-метафизики, такие как Джон Донн, упоминаются как создатели некоторых из самых важных произведений в период барокко.
Испанская литература барокко
Испанская литература барокко также была важной частью литературного периода. Он был написан в 17 веке и часто затрагивал темы времени и религии. Большая часть произведений, созданных в этот период, содержала элементы пессимизма и разочарования (например, в идеале эпохи Возрождения). Писатели, такие как Кеведо, занимались сатирой как формой письма. Одним из основных авторов этого периода был Мигель де Сервантес, чья первая работа была создана в 1585 году и наиболее известна Гениальный джентльмен Дон Кихот Ламанчский, , обычно называемый Дон Кихот.
Примеры литературы эпохи барокко
«Потерянный рай » Джона Мильтона«Потерянный рай » был опубликован Джоном Мильтоном в 1667 году. Это эпическая поэма или длинное повествовательное поэтическое произведение. В нем подробно описана библейская история «Падения человека». Он включает подробности об искушении Адама и Евы сатаной и о том, что произошло после их изгнания из Эдемского сада. В нем также фигурирует сатана как один из основных персонажей. Рассмотрим эти строки из Книги I «Потерянного рая»:
Они, оглядываясь назад, созерцали всю восточную сторону
Рая, так поздно, их счастливое место,
Волнуясь этим огненным клеймом, воротами
С ужасными лицами, переполненными и огненными руками:
Немного естественных слез они упали, но вскоре вытерлись;
Мир был весь перед ними, где выбрать
Их место отдыха, и Провидение их проводник;
Они, рука об руку, шагами блуждающими и медленными,
Через Эдем шли своей одинокой дорогой.
В этих строках читатели могут увидеть примеры языковых навыков Мильтона в дополнение к использованию им литературных приемов. Образность — один из важнейших приемов, используемых в этом стихотворении. Рассмотрим эти строки из другой части эпической поэмы и то, как Мильтон использует эпическое сравнение: Этрурийские шторы
Высокий арочный выступ; или осока рассеянная
На плаву, когда свирепыми ветрами Орион вооружался
Раздразнил побережье Красного моря, волны которого опрокинули
Бусирис и его мемфианское рыцарство,
Здесь он сравнивает армию сатаны с разбросанными осенними листьями . В литературе барокко нет ничего необычного в том, чтобы найти эпические сравнения и расширенные метафоры.
Узнайте больше о стихах Джона Мильтона.
Ошейник Джорджа Герберта В этом вдумчивом стихотворении описывается желание говорящего убежать от своей религиозной жизни и обратиться к жизни большей свободы. Он отмечает, что больше не собирается стоять за свою жизнь такой, какая она есть. Он будет искать настоящие удовольствия и перестанет беспокоиться о том, что неправильно, а что правильно. Вот несколько строк из стихотворения:
Он отмечает, что больше не собирается стоять за свою жизнь такой, какая она есть. Он будет искать настоящие удовольствия и перестанет беспокоиться о том, что неправильно, а что правильно. Вот несколько строк из стихотворения:
Я ударил по доске и закричал: «Хватит;
Я буду за границей!
Что? буду ли я когда-нибудь вздыхать и тосковать?
Мои линии и жизнь свободны, свободны, как дорога,
Свободны, как ветер, велики, как магазин.
Останусь ли я в костюме?
В конце стихотворения он отмечает, что тоже станет сильнее.
Узнайте больше о стихах Джорджа Герберта.
Блоха Джона Донна «Блоху» часто называют идеальным произведением метафизической поэзии. В нем говорящий Донна использует тщеславие, чтобы убедить свою возлюбленную переспать с ним. Он описывает блоху, которая прыгает с его тела на ее и сосет их кровь. Вместе, в его теле смешивается их кровь. В этом поступке нет потери чести, как не должно быть, если они спят вместе. Вот несколько строк:
Вот несколько строк:
Отметьте, но эту блоху, и отметьте в этой,
Как мало то, что ты отвергаешь меня;
Сначала она сосет меня, а теперь сосет тебя,
И в этой блохе смешались две наши крови;
Ты знаешь, что этого нельзя сказать
Ни грех, ни позор, ни потеря девственности,
Это произведение — одно из самых оригинальных произведений Донна. Продуманная и удивительная метафора, лежащая в основе, является прекрасным примером того, почему его поэзия остается такой популярной и по сей день.
Прощание: запрещающий траур Джона ДоннаВ этой невероятной любовной поэме есть еще одно известное тщеславие. На этот раз сравнивая любовь между двумя людьми с движениями компаса. Она была написана для жены поэта в 1611 или 1612 году перед его отъездом в путешествие по Европе. Она была опубликована в Песни и сонеты после смерти поэта. Вот несколько строк из поэмы:
Если их два, то их два, так что
Как два жестких циркуля;
Твоя душа, неподвижная нога, не показывается
Двигается, но движется, если другая движется.
В этом разделе текста говорящий утверждает, что его жена — верная стрелка компаса, а он — тот, кто скитается. Их связь всегда гарантирует, что он снова вернется к ней.
Узнайте больше о стихах Джона Донна.
Часто задаваемые вопросы
Чем важна литература эпохи барокко?
Литература эпохи барокко важна, потому что в этот период работали некоторые из самых важных поэтов, и были написаны некоторые из самых влиятельных стихов. Период барокко был источником вдохновения и для последующих писателей.
Что характерно для литературы эпохи барокко?
Особенностью этого периода является использование образного языка, такого как сравнения и метафоры, а также других литературных приемов, таких как гиперболы и образы. Эти писатели часто касались и религиозных тем.
Когда была написана литература эпохи барокко?
Период барокко длился с 16 по 18 века. Конкретное десятилетие или год иногда оспаривается в зависимости от страны и того, какие элементы используются для определения того, когда закончился предыдущий период и когда начался последний.
Конкретное десятилетие или год иногда оспаривается в зависимости от страны и того, какие элементы используются для определения того, когда закончился предыдущий период и когда начался последний.
Связанные литературные термины
- Просвещение, также известное как Эпоха Разума, — период с конца 17 по 18 век.
- Романтизм: движение, зародившееся в Европе в конце 18 века и делавшее акцент на эстетическом опыте и воображении.
- Неоклассицизм: движение, заинтересованное в возрождении греко-римской литературы, искусства, архитектуры, философии и театра в 18 веке.
- Метафизическая поэзия: отмечена использованием сложных образных языков, оригинальных концепций, парадоксов и философских тем.
- Елизаветинская эпоха: литературный период, продолжавшийся в годы правления королевы Елизаветы, с 1558 по 1603 год.
- Эдвардианский период: официально продолжавшийся с 1901 по 1910 год, включая правление короля Эдуарда VII.
- Кавалерские поэты: группа английских писателей 17 века.

Другие материалы
Барочная литература — baroquen101
Барочная литература
|
Что такое барочная литература? (с картинками)
`;
Анджела Фаррер
Литература барокко — это жанр прозы 17 века, который имеет несколько отличительных черт по сравнению с литературными стилями более ранних веков. Эпоха барокко известна использованием драматических элементов во всех видах искусства, и произведения барочной литературы, как правило, не являются исключением. Писатели этого периода времени расширили и усовершенствовали использование аллегорий с несколькими слоями значения. Метафоры меньшего масштаба также являются частыми товарными знаками этого жанра, и многие произведения литературы в стиле барокко сосредоточены на борьбе человечества за поиск глубокого смысла существования.
Писатели этого периода времени расширили и усовершенствовали использование аллегорий с несколькими слоями значения. Метафоры меньшего масштаба также являются частыми товарными знаками этого жанра, и многие произведения литературы в стиле барокко сосредоточены на борьбе человечества за поиск глубокого смысла существования.
Многие рассказы, относящиеся к литературе эпохи барокко, известны богатым подробным описанием персонажей и мест действия, которые отражают реалистичную жизнь, а не фантастические миры. Таким образом, романы и рассказы эпохи барокко попадают в категорию реализма. Метафоры также стали более заметными в письмах эпохи барокко, чтобы вдохновлять как образное, так и спекулятивное мышление в умах читателей. Несколько известных литературных произведений также обращались к различным религиозным идеям, потому что некоторые писатели эпохи барокко работали под покровительством церкви, как и другие художники.
Метафоры также стали более заметными в письмах эпохи барокко, чтобы вдохновлять как образное, так и спекулятивное мышление в умах читателей. Несколько известных литературных произведений также обращались к различным религиозным идеям, потому что некоторые писатели эпохи барокко работали под покровительством церкви, как и другие художники.
Эпоха барокко была первым периодом, когда разные художники были признаны совершенными виртуозами, и несколько писателей были включены в эту категорию. Ученые, изучающие литературу барокко, часто отмечают, что она напрямую обращается к убеждениям и предположениям читателей больше, чем другие жанры предыдущих эпох. Многие истории эпохи барокко сосредоточены на личности, а не на коллективной группе, что отражает изменение отношения в этот период времени. Литература в стиле барокко, издаваемая на языках, отличных от латыни, также была обычным явлением, что отражало важность культурной самобытности, а также рост уровня грамотности среди людей, не принадлежащих к высшим социальным и экономическим классам.
Многие истории эпохи барокко сосредоточены на личности, а не на коллективной группе, что отражает изменение отношения в этот период времени. Литература в стиле барокко, издаваемая на языках, отличных от латыни, также была обычным явлением, что отражало важность культурной самобытности, а также рост уровня грамотности среди людей, не принадлежащих к высшим социальным и экономическим классам.
Испанская литература в стиле барокко часто известна своими темами, отражающими политический и экономический ландшафт Испании 17 века. Несмотря на успехи в колонизации и торговле в предыдущие века, к началу эпохи барокко страна вступила в период застоя. Многие испанские писатели создали аллегории, в основе которых лежало разочарование в идеалах, выраженных в искусстве и литературе эпохи Возрождения. Поскольку новые и новаторские идеи эпохи Возрождения не произвели неизгладимого впечатления, испанские писатели эпохи барокко часто реагировали с цинизмом, что проявляется в некоторых из их сатирических романов. Растущий уровень неодобрения испанской монархии также является темой нескольких литературных произведений, прославившихся до окончания эпохи барокко.
Многие испанские писатели создали аллегории, в основе которых лежало разочарование в идеалах, выраженных в искусстве и литературе эпохи Возрождения. Поскольку новые и новаторские идеи эпохи Возрождения не произвели неизгладимого впечатления, испанские писатели эпохи барокко часто реагировали с цинизмом, что проявляется в некоторых из их сатирических романов. Растущий уровень неодобрения испанской монархии также является темой нескольких литературных произведений, прославившихся до окончания эпохи барокко.
Самые знаковые художники эпохи барокко, от Караваджо до Рембрандта
Искусство
Джордж Филипп ЛеБурдэ
6 января 2016 г. 16:04
16:04
Диего Веласкес
9itra 3.Portca, 5itra 3.Portca, 5itra 3.3.50 1650
«Velázquez» at RMN Grand Palais, Paris (2015)
Michelangelo Merisi da Caravaggio
Bacchus , 1589
Uffizi Gallery, Florence
Named after the French word denoting extravagance and ornate detail, the Baroque was господствующее направление европейского искусства с 17 до середины 18 вв. Буквально ссылаясь на жемчужину неправильной формы, это было не столько принципиальное стилистическое движение, сколько набор реакций и восстаний против сдержанных пропорций классицизма эпохи Возрождения и капризов маньеризма. Это было время изобретательства и освобождения в художественном самовыражении, а также время, когда искусство служило религиозным и политическим целям.
Иоганн Себастьян Бах и Джордж Фридрих Гендель продемонстрировали тему разнообразия в музыке барокко, а монументальный Версальский дворец и эффектные волнообразные здания, спроектированные Кристофером Реном, Иоганном Бернхардом Фишером фон Эрлахом и Франческо Борромини, являются примерами архитектуры того периода. Джан Лоренцо Бернини изменил практику скульптуры, продемонстрировав в таких работах, как Фонтан Четырех рек (1648-51) и Экстаз Святой Терезы (1647-52), беспрецедентный уровень детализации и деликатности. Возникнув между эпохами Просвещения и Абсолютизма, стиль барокко поощрялся как мощное средство Контрреформации, способствуя утверждению католической церкви через искусство.
Джан Лоренцо Бернини изменил практику скульптуры, продемонстрировав в таких работах, как Фонтан Четырех рек (1648-51) и Экстаз Святой Терезы (1647-52), беспрецедентный уровень детализации и деликатности. Возникнув между эпохами Просвещения и Абсолютизма, стиль барокко поощрялся как мощное средство Контрреформации, способствуя утверждению католической церкви через искусство.
Джан Лоренцо Бернини
Фонтан из четырех рек, Ганг (Азия) , 1648-1651
Piazza Navon 1685
Версаль, Франция
Реклама
Особенно это касается итальянской живописи. Римский дворец Фарнезе стал полотном для картины Аннибале Карраччи « Любовь богов» (1597–1601), цикла фресок, заказанного кардиналом, который продемонстрировал ранние признаки нововведений в стиле барокко. Член академически образованной творческой семьи, Карраччи, безусловно, черпал вдохновение в классической архитектуре и скульптуре, выставленных по всему городу. Но его идея создать невозможный мир, в котором мифологические сцены в ложных рамах поддерживаются ангельскими putti , окруженный иллюзионистскими архитектурными элементами и нарисованным небом, — это был радикальный отход от традиционного дизайна.
Michelangelo Merisi da Caravaggio
The Calling of St Matthew , 1599-1600
San Luigi dei Francesi, Rome
Michelangelo Merisi da Caravaggio
David victorious over Goliath , 1600
Museo del Prado, Madrid
В то время как Карраччи также разработал идею пейзажа, который будет ассоциироваться с французским и северным стилями, работы других итальянских художников потрясли всю Европу. Никто не был более влиятельным, чем Микеланджело Меризи да Караваджо. Дерзкая, опасная личность, Караваджо привносил в свои полотна суровый реализм. Он рисовал крестьян и проституток с улицы, вплоть до грязи под ногтями, как в Мальчик, укушенный ящерицей (1595–1600), представил себя пораженным желтухой Вакхом и убитым великаном Голиафом. Но какими бы шокирующими ни были его знаменитые работы Medusa (1595–1598) с кровавым изображением обезглавливания, его всеобъемлющий стиль chiaroscuro (сочетание света и тьмы для создания резкого контраста) стал решающим прорывом. Подчеркивая наиболее драматичный момент религиозной сцены, такие работы, как «Ужин в Эммаусе» (1605-06) изображают глубокие духовные откровения, символизируемые вмешательством божественного света в повседневную обстановку.
Подчеркивая наиболее драматичный момент религиозной сцены, такие работы, как «Ужин в Эммаусе» (1605-06) изображают глубокие духовные откровения, символизируемые вмешательством божественного света в повседневную обстановку.
Артемизия Джентилески
Юдифь и Олоферн , ок. 1620
Галерея Уффици, Флоренция
Жорж де Ла Тур
Мария Магдалина с дымящимся пламенем , ок. 1640
Музей искусств округа Лос-Анджелес
В то время как многие итальянские художники следовали этому композиционному методу, с ярко освещенными сценами, выходящими из темного фона, Артемизия Джентилески была одной из редких женщин, вышедших из тени истории, в которой доминировали мужчины. искусство. Ее Юдифь и Олоферн (1620 г.) является знаковым и показательным для ее работы; он не только изображает библейский эпизод женской силы и свободы действий, но также предлагает яркий пример тенебризма, стиля караваджа, в котором свет исходит из одного, часто наклонного источника, создавая драматические тени.
Хусепе де Рибера
Аристотель , 1637
Художественный музей Индианаполиса
Постоянная коллекция
Франсиско де Сурбаран
San Francisco en meditación (Святой Франциск в медитации) , 1639
«Сурбаран. Новая перспектива» в музее Тиссена-Борнемисы, Мадрид
Драматический удар тенебризма сделал его чрезвычайно популярным, завоевав последователей по всей Европе. Во Франции Жорж де ла Тур создал одни из самых известных работ в этом стиле, добавив к ним оригинальные мотивы. Святой Иосиф Плотник (1642 г.) демонстрирует свое фирменное устройство света, исходящего от свечи, освещающее библейские сцены, разыгрываемые людьми в интимных интерьерах. Испанский художник Хосе де Рибера, работавший в Неаполе, еще больше усилил контраст в таких работах, как Аристотель (1637), в то время как его соотечественник Франсиско де Сурбаран отлил множество работ, от религиозных сцен, таких как Святой Франциск в медитации (1635-39), до натюрмортов в стиле тенебризма.
Diego Velázquez
Las Meninas , 1656
Museo Nacional del Prado
Diego Velázquez
The Toilet of Venus (‘The Rokeby Venus’) , 1647-1651
The National Gallery, London
В то время как спокойные, сентиментальные работы Бартоломе Эстебана Мурильо стали высоко цениться в Европе, выдающимся испанским художником того времени и одним из самых почитаемых художников в истории был Диего Веласкес. Обладая строгой академической подготовкой, большими амбициями и не по годам развитым талантом, он дослужился до ранга официального художника Филиппа IV, короля Испании, чье покровительство Веласкесу и другим художникам было отличительной чертой того периода. Будучи знатоком многих видов живописи, от натюрмортов до портретов и картин на религиозную тематику, Веласкес также обладал редкой изобретательностью, которая позволяла ему ловко совмещать несколько из этих жанров друг с другом, как в Продавец воды из Севильи (1618-22).
В то время как многие могут узнать его знаменитый Rokeby Venus (1647-51) (и, возможно, его печально известную главу в истории иконоборчества), величайшим достижением Веласкеса был Las Meninas (1656), изобретательный групповой портрет королевской семьи Испании. Филипп IV и его жена Мария Анна появляются в нем, но помещены в положение зрителя и могут быть видны только тускло отраженными в зеркале, висевшем на задней стене комнаты. Под отражением родителей стоит маленькая принцесса Маргарита ( la Infanta ) в окружении своих служанок ( las Meninas ). Слева автопортрет Веласкеса, показанный в процессе рисования, похоже, того самого образа, который мы сейчас наблюдаем. Виртуозное переплетение художника, сюжета, размышлений и ракурсов, картина с момента своего создания вызывала отклики у критиков, ученых, поэтов, драматургов и философов.
Питер Пауль Рубенс
Le debarquement de Marie de Médicis au port de Marseille le 3 ноября 1600 г. (Мария Медичи прибывает в Марсель, 3 ноября 1600 г.) , ок. 1622-1625
(Мария Медичи прибывает в Марсель, 3 ноября 1600 г.) , ок. 1622-1625
Музей Лувра, Париж
Постоянная коллекция
Питер Пауль Рубенс
Охота на тигра, льва и леопарда , 1616
«Рубенс и его наследие» в Королевской академии искусств Ван Дайка. Лондон (2015)
Сам Веласкес был глубоко вдохновлен Питером Паулем Рубенсом, одним из величайших фламандских художников того периода и опытным дипломатом. Столь же плодовитый, как и учтивый, Рубенс произвел глубокое впечатление как на Веласкеса, так и на короля Филиппа во время визита ко двору последнего в Мадриде. Находясь под сильным влиянием итальянской традиции, Рубенс стал особенно известен своими изображениями мясистых, полных женщин, часто с аллегорическим значением. Огромный цикл из 24 картин для Марии Медичи олицетворяет этот стиль, где выразительные обнаженные тела помогают драматизировать всеобъемлющее политическое повествование, изображающее жизнь королевы Франции.
Стиль Рубенса был настолько выдающимся, что стал одним из двух полюсов в международных художественных дебатах того периода. Там, где Рубенист отдавал приоритет цвету, Пуссинисты последовали примеру французского художника Николя Пуссена, который подчеркивал важность рисунка. Получив академическое образование во Франции и Италии, Пуссен стремился восстановить классические принципы: точное рисование, композиционный баланс и сагу о человеческих эмоциях, часто выраженную в сказках из 9 Овидия.0358 Метаморфозы . Похищение сабинянок (1637–1638), сцена из истории Древнего Рима Плутарха, является известным примером способности Пуссена преобразовывать повествование в напряженные, извилистые позы и болезненные выражения лица.
Там, где Рубенист отдавал приоритет цвету, Пуссинисты последовали примеру французского художника Николя Пуссена, который подчеркивал важность рисунка. Получив академическое образование во Франции и Италии, Пуссен стремился восстановить классические принципы: точное рисование, композиционный баланс и сагу о человеческих эмоциях, часто выраженную в сказках из 9 Овидия.0358 Метаморфозы . Похищение сабинянок (1637–1638), сцена из истории Древнего Рима Плутарха, является известным примером способности Пуссена преобразовывать повествование в напряженные, извилистые позы и болезненные выражения лица.
Николас Пуссин
Изнасилование Sabine Women , 1637-1638
Musée Du Louvre, Paris
Claude Lorain
National National National , 1648
National National Национальная.0003 В то время как Пуссен также привнес этот эмоциональный акцент в пейзажную живопись, как, например, в «Погребение Фокиона» (1648–1649 гг. ), самым важным художником-пейзажистом того периода был Клод Желле, которого звали Клод Лоррен или просто Клод. Родившийся во Франции, Клод развил свой зрелый стиль в Италии. Посадка царицы Савской (1648 г.), которая создает глубину перспективы с помощью классической архитектуры и естественного света, исходящего от солнца, типична для изобретения Клодом идеализированной сцены в гавани. Пасторальные сцены типа Пейзаж с танцующими нимфой и сатиром (1641) представляют собой идеализированную землю, полную мифологических существ и обрамленную репуссуарами деревьями и классическими руинами.
), самым важным художником-пейзажистом того периода был Клод Желле, которого звали Клод Лоррен или просто Клод. Родившийся во Франции, Клод развил свой зрелый стиль в Италии. Посадка царицы Савской (1648 г.), которая создает глубину перспективы с помощью классической архитектуры и естественного света, исходящего от солнца, типична для изобретения Клодом идеализированной сцены в гавани. Пасторальные сцены типа Пейзаж с танцующими нимфой и сатиром (1641) представляют собой идеализированную землю, полную мифологических существ и обрамленную репуссуарами деревьями и классическими руинами.
Рембрандт ван Рейн
Компания Франса Баннинга Кока и Виллема ван Рейтенбурха (Ночной дозор) , 1642
Рейксмузеум, Амстердам
великих художников Голландии. Вместо того, чтобы использовать религиозные темы для раскрытия духовных и художественных истин, как в искусстве итальянского барокко, голландские художники того периода обращались к природе. Их коллективный идеал можно резюмировать руководящим принципом Рембрандта ван Рейна, одного из величайших художников барокко или любого другого периода: нужно руководствоваться только природой. Его культовая «Ночной дозор» (1642) представляет собой одну из величайших кульминаций натурализма в западном искусстве. Но хотя они могут подпадать под широкие и разнообразные параметры искусства барокко, Рембрандт, Рейсдал, Рубенс и другие голландские художники, такие как Франс Хальс, Антонис ван Дейк и Йоханнес Вермеер, работали в более конкретном контексте: Золотой век Голландии, период с своя сложная история.
Их коллективный идеал можно резюмировать руководящим принципом Рембрандта ван Рейна, одного из величайших художников барокко или любого другого периода: нужно руководствоваться только природой. Его культовая «Ночной дозор» (1642) представляет собой одну из величайших кульминаций натурализма в западном искусстве. Но хотя они могут подпадать под широкие и разнообразные параметры искусства барокко, Рембрандт, Рейсдал, Рубенс и другие голландские художники, такие как Франс Хальс, Антонис ван Дейк и Йоханнес Вермеер, работали в более конкретном контексте: Золотой век Голландии, период с своя сложная история.
George Philip LeBourdais
Исследуйте знаковых художников и произведения искусства эпохи барокко на Artsy.
Испанское барокко | artehistoria.com
Compartir
Datos Principales
desde
hasta
Anúnciosсообщите об этом объявлении
Desarrollo
чьи интересные и плодотворные художественные деятели
пользовались значительным влиянием в региональных школах Испании в течение долгого и продуктивного периода. 18 век. В 17 веке на полуострове был глубокий экономический кризис. Однако, несмотря на сложную ситуацию, это был золотой век для религии, культуры, искусства и литературы. Основные богословы католической Реформации были из Испании, и их постулаты определяли художественную кодификацию страны в большей степени, чем в любой другой европейской католической стране. Этому способствовал тот факт, что монархический абсолютизм, преобладавший в остальной Европе, был ослаблен в Испании в результате церковной власти. Такое положение вещей оказало определяющее влияние на искусство, поскольку церковь заказала девять десятых всех картин, а это означает, что религиозные темы перевешивали мифологические, батальные и светские темы. Заказанные картины маслом обычно были большого размера. Были использованы яркие, разнообразные цвета, подчеркнутые различными источниками света, которые исходили со всех сторон, контрастируя друг с другом и создавая большие тени и освещенные зоны. Фигуры появлялись в динамичных позах, с очень выразительными жестами и лицами, потому что барокко было периодом сантиментов.
18 век. В 17 веке на полуострове был глубокий экономический кризис. Однако, несмотря на сложную ситуацию, это был золотой век для религии, культуры, искусства и литературы. Основные богословы католической Реформации были из Испании, и их постулаты определяли художественную кодификацию страны в большей степени, чем в любой другой европейской католической стране. Этому способствовал тот факт, что монархический абсолютизм, преобладавший в остальной Европе, был ослаблен в Испании в результате церковной власти. Такое положение вещей оказало определяющее влияние на искусство, поскольку церковь заказала девять десятых всех картин, а это означает, что религиозные темы перевешивали мифологические, батальные и светские темы. Заказанные картины маслом обычно были большого размера. Были использованы яркие, разнообразные цвета, подчеркнутые различными источниками света, которые исходили со всех сторон, контрастируя друг с другом и создавая большие тени и освещенные зоны. Фигуры появлялись в динамичных позах, с очень выразительными жестами и лицами, потому что барокко было периодом сантиментов. Великолепные композиции с роскошно одетыми фигурами, религиозными или мифологическими аллегориями, большим двором или батальными сценами были одними из самых ярких примеров искусства барокко. На батальную тему очень известна картина Веласкеса «Сдача Бреды». Основными центрами художественного производства были Севилья и Мадрид по экономическим и административным причинам. Тематика, как мы уже упоминали, была в основном религиозной. Однако типология в рамках этой темы была очень разнообразной. Самым значительным был запрестольный образ готического происхождения, сохранившийся в эпоху Возрождения. Разница между этими более ранними стилями и алтарем в стиле барокко заключалась в том, что в нем было меньше сцен и он был больше, что помогало верующим «читать» сцены. Еще одно отличие заключалось в том, что святые, которым они были посвящены, были менее известны, часто потому, что они соответствовали имени клиента. Кроме того, композиции были другими, они были более сложными и следовали правилам, установленным Контрреформацией: цвет, натурализм и идентификация с верующими, чтобы облегчить их доступ к католическим догмам.
Великолепные композиции с роскошно одетыми фигурами, религиозными или мифологическими аллегориями, большим двором или батальными сценами были одними из самых ярких примеров искусства барокко. На батальную тему очень известна картина Веласкеса «Сдача Бреды». Основными центрами художественного производства были Севилья и Мадрид по экономическим и административным причинам. Тематика, как мы уже упоминали, была в основном религиозной. Однако типология в рамках этой темы была очень разнообразной. Самым значительным был запрестольный образ готического происхождения, сохранившийся в эпоху Возрождения. Разница между этими более ранними стилями и алтарем в стиле барокко заключалась в том, что в нем было меньше сцен и он был больше, что помогало верующим «читать» сцены. Еще одно отличие заключалось в том, что святые, которым они были посвящены, были менее известны, часто потому, что они соответствовали имени клиента. Кроме того, композиции были другими, они были более сложными и следовали правилам, установленным Контрреформацией: цвет, натурализм и идентификация с верующими, чтобы облегчить их доступ к католическим догмам. После запрестольного образа самым популярным заказом был монастырский цикл, насчитывавший от дюжины до сотни с лишним полотен, которые висели в монастыре, заказавшем работу. Темой, конечно же, были святые, основатели Ордена и другие связанные с ним важные фигуры. Форматы иногда комбинировались, в зависимости от помещения, которое нужно было украсить. В настоящее время трудно найти полные серии монастырей, чаще всего они были разделены, например, цикл Сурбарана для монахов-мерседарианцев, который можно увидеть в Real Academia de Bellas Artes в Мадриде. Школы Мадрида и Севильи отличались качеством работы своих художников, и натюрморты, созданные в этот период, также выделялись. Божественный портрет (дворяне, богатые и короли, чьи портреты были написаны в стиле святых их преданности) и небольшие религиозные картины, заказанные частными лицами, были другими религиозными заказами того периода. Картин на мифологические или батальные и светские темы было довольно мало, а те, что существовали, часто были написаны итальянскими художниками и всегда были результатом прямого заказа двора на украшение дворцов.
После запрестольного образа самым популярным заказом был монастырский цикл, насчитывавший от дюжины до сотни с лишним полотен, которые висели в монастыре, заказавшем работу. Темой, конечно же, были святые, основатели Ордена и другие связанные с ним важные фигуры. Форматы иногда комбинировались, в зависимости от помещения, которое нужно было украсить. В настоящее время трудно найти полные серии монастырей, чаще всего они были разделены, например, цикл Сурбарана для монахов-мерседарианцев, который можно увидеть в Real Academia de Bellas Artes в Мадриде. Школы Мадрида и Севильи отличались качеством работы своих художников, и натюрморты, созданные в этот период, также выделялись. Божественный портрет (дворяне, богатые и короли, чьи портреты были написаны в стиле святых их преданности) и небольшие религиозные картины, заказанные частными лицами, были другими религиозными заказами того периода. Картин на мифологические или батальные и светские темы было довольно мало, а те, что существовали, часто были написаны итальянскими художниками и всегда были результатом прямого заказа двора на украшение дворцов. Барокко имел ряд очевидных влияний. Одним из них была фламандская живопись, которая имела глубоко укоренившуюся традицию в Испании из-за политических связей полуострова с Нидерландами. Стиль этого региона, фламандское барокко, предоставил испанскому барокко модели для копирования и, возможно, оказал большее влияние, чем итальянская версия. Во второй половине 17 века был огромный приток итальянских художников и работ итальянских художников. Прибытие Рубенса при испанском дворе в Мадриде произвело большое впечатление, и его художественные новации распространились по всей территории. Как было указано в начале, Золотой век был проиллюстрирован некоторыми из самых важных имен в искусстве. Его поколение живописцев, большинство из которых родились в 159 г.0s и, следовательно, работали примерно до 1650 или 1660 года, включая таких художников, как Сурбаран, Веласкес, Алонсо Кано, Рибера и Мурильо (который был моложе других). Этим художникам предшествовала и за ними следовала выдающаяся группа художников, которые были затмеваемы гением первой группы, но сами отнюдь не были лишены качества.
Барокко имел ряд очевидных влияний. Одним из них была фламандская живопись, которая имела глубоко укоренившуюся традицию в Испании из-за политических связей полуострова с Нидерландами. Стиль этого региона, фламандское барокко, предоставил испанскому барокко модели для копирования и, возможно, оказал большее влияние, чем итальянская версия. Во второй половине 17 века был огромный приток итальянских художников и работ итальянских художников. Прибытие Рубенса при испанском дворе в Мадриде произвело большое впечатление, и его художественные новации распространились по всей территории. Как было указано в начале, Золотой век был проиллюстрирован некоторыми из самых важных имен в искусстве. Его поколение живописцев, большинство из которых родились в 159 г.0s и, следовательно, работали примерно до 1650 или 1660 года, включая таких художников, как Сурбаран, Веласкес, Алонсо Кано, Рибера и Мурильо (который был моложе других). Этим художникам предшествовала и за ними следовала выдающаяся группа художников, которые были затмеваемы гением первой группы, но сами отнюдь не были лишены качества.


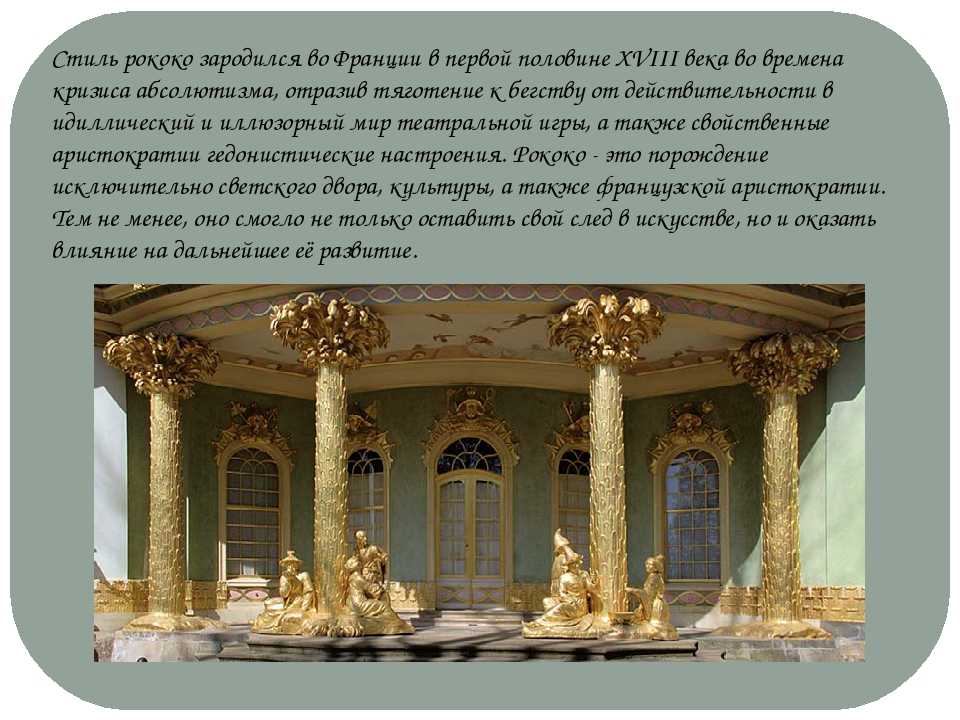 Проработав несколько лет в разных мастерских, Ватто в 1702 г.
отправляется в Париж. Здесь талант Антуана развивает живописец К. Одран,
создав условия для изучения искусства великих мастеров в коллекции
Люксембургского дворца. Художник любил бытовой жанр, делал много зарисовок
батальных сцен и быта солдат, копировал полотна голландцев, много рисовал с
натуры, был очарован живописью Рембрандта и Рубенса.
Проработав несколько лет в разных мастерских, Ватто в 1702 г.
отправляется в Париж. Здесь талант Антуана развивает живописец К. Одран,
создав условия для изучения искусства великих мастеров в коллекции
Люксембургского дворца. Художник любил бытовой жанр, делал много зарисовок
батальных сцен и быта солдат, копировал полотна голландцев, много рисовал с
натуры, был очарован живописью Рембрандта и Рубенса.